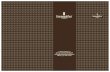Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций ПИ № ФС7736877 от 20 июля 2009 г. Общероссийская общественная организация «Федерация анестезиологов и реаниматологов» ООО «НЬЮ ТЕРРА» оригиналмакет, 2010 Адрес редакции: 129515, г. Москва, а/я 98 Подписной индекс в каталоге «Роспечати» – 20804 Содержание Плановая и экстренная анестезиология В. Г. Сальников, К. Ю. Красносельс- кий, Н. Р. Ширинбеков, А. А. Белов, Ю. С. Александрович Анестезия с использованием расчёта плазменных концентраций препаратов на основе фармакологических моделей 3 Реаниматологическая помощь больным хирургического профиля И. М. Самохвалов, В. В. Бояринцев, С. В. Гаврилин, Н. С. Немченко, Г. Л. Герасимов, Д. П. Мешаков, С. В. Недомолкин, С. А. Смирнов Травматическая болезнь: перспективы совершенствования анестезиологиче- ской и реаниматологической помощи 9 А. У. Лекманов, Л. И. Будкевич, В. В. Сошкина, С. Ф. Пилютик Информативность мониторинга про- и противовоспалительных цитокинов для диагностики сепсиса у детей с обшир- ными ожогами 16 Р. В. Акопян Внутрибрюшное давление как показа- тель, влияющий на общую летальность у пациентов хирургического профиля в отделении интенсивной терапии 21 П. И. Миронов Методология оценки и пути улучшения качества интенсивной терапии 30 Многоцентровые исследования Ю. С. Полушин, Д. Н. Проценко, С. С. Петриков, Е. П. Макаренко Практика инфузионной терапии в лечебных учреждениях Российской Федерации 38 В помощь практическому врачу В. А. Руднов Базисный комплекс интенсивной тера- пии тяжёлого сепсиса и септического шока с учётом современных рекоменда- ций (сообщение второе) 42 А. М. Шилов, М. В. Мельник, А. О. Осия, М. Г. Селезнёва Классификация, клиника и диагностика инфаркта миокарда 50 История анестезиологии и реаниматологии Ю. С. Полушин Анестезия и противошоковая терапия в период Второй мировой войны (к 65-летию завершения Второй миро- вой войны) 59 ТОМ 7 № 3 2010 Главный редактор: Полушин Ю. С. Зам. главного редактора: Мизиков В. М. Редакционная коллегия: Авдеев С. Н. (Москва) Александрович Ю. С. (СанктПетербург) Вартанова И. В. (СанктПетербург) Волчков В. А. (Санкт-Петербург) Гаврилин С. В. (СанктПетербург) Гельфанд Б. Р. (Москва) Грицан А. И. (Красноярск) Заболотских И. Б. (Краснодар) Зильбер А. П. (Петрозаводск) Киров М. Ю. (Архангельск) Лебединский К. М. (СанктПетербург) Лекманов А. У. (Москва) Неймарк М. И. (Барнаул) Козлов С. П. (Москва) Проценко Д. Н. (Москва) Пырегов А. В. (Москва) Руднов В. А. (Екатеринбург) Садчиков Д. В. (Саратов) Субботин В. В. (Москва) Щеголев А. В. (СанктПетербург) Общероссийская общественная организация «Федерация анестезиологов и реаниматологов» Издательский дом «НЬЮ ТЕРРА»

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

Зарегистрирован Федеральной службойпо надзору в сфере связи и массовыхкоммуникацийПИ № ФС7736877 от 20 июля 2009 г.
Общероссийская общественнаяорганизация «Федерация анестезиологов иреаниматологов»ООО «НЬЮ ТЕРРА»
оригиналмакет, 2010Адрес редакции: 129515, г. Москва, а/я 98
Подписной индекс в каталоге «Роспечати» – 20804
Содержание
Плановая и экстренная анестезиологияВ. Г. Сальников, К. Ю. Красносельс-кий, Н. Р. Ширинбеков, А. А. Белов,Ю. С. Александрович
Анестезия с использованием расчётаплазменных концентраций препаратовна основе фармакологических моделей 3
Реаниматологическая помощь больным хирургического профиляИ. М. Самохвалов, В. В. Бояринцев,С. В. Гаврилин, Н. С. Немченко,Г. Л. Герасимов, Д. П. Мешаков, С. В. Недомолкин, С. А. Смирнов
Травматическая болезнь: перспективысовершенствования анестезиологиче-ской и реаниматологической помощи 9
А. У. Лекманов, Л. И. Будкевич, В. В. Сошкина, С. Ф. Пилютик
Информативность мониторинга про- ипротивовоспалительных цитокинов длядиагностики сепсиса у детей с обшир-ными ожогами 16
Р. В. Акопян
Внутрибрюшное давление как показа-тель, влияющий на общую летальностьу пациентов хирургического профиля вотделении интенсивной терапии 21
П. И. Миронов
Методология оценки и пути улучшениякачества интенсивной терапии 30
Многоцентровые исследования
Ю. С. Полушин, Д. Н. Проценко, С. С. Петриков, Е. П. Макаренко
Практика инфузионной терапии влечебных учреждениях РоссийскойФедерации 38
В помощь практическому врачу
В. А. Руднов
Базисный комплекс интенсивной тера-пии тяжёлого сепсиса и септическогошока с учётом современных рекоменда-ций (сообщение второе) 42
А. М. Шилов, М. В. Мельник,А. О. Осия, М. Г. Селезнёва
Классификация, клиника и диагностикаинфаркта миокарда 50
История анестезиологии и реаниматологии
Ю. С. Полушин
Анестезия и противошоковая терапия впериод Второй мировой войны(к 65-летию завершения Второй миро-вой войны) 59
ТОМ 7 № 3 2010
Главный редактор:Полушин Ю. С.
Зам. главного редактора:Мизиков В. М.
Редакционная коллегия:Авдеев С. Н. (Москва)Александрович Ю. С.(СанктПетербург)Вартанова И. В.(СанктПетербург)Волчков В. А. (Санкт-Петербург)Гаврилин С. В.(СанктПетербург)Гельфанд Б. Р. (Москва)Грицан А. И. (Красноярск)Заболотских И. Б. (Краснодар)Зильбер А. П. (Петрозаводск)Киров М. Ю. (Архангельск)Лебединский К. М.(СанктПетербург)Лекманов А. У. (Москва) Неймарк М. И. (Барнаул)Козлов С. П. (Москва)Проценко Д. Н. (Москва)Пырегов А. В. (Москва)Руднов В. А. (Екатеринбург)Садчиков Д. В. (Саратов) Субботин В. В. (Москва)Щеголев А. В.(СанктПетербург)
Общероссийская общественнаяорганизация «Федерация
анестезиологов и реаниматологов»
Издательский дом «НЬЮ ТЕРРА»

Вестник анестезиологии и реаниматологии 2010. Т. 7, № 3
2
Elective and Emergency AnesthesiaV. G. Salnikov, K. Yu. Krasnoselsky, N. R. Shirinbekov, A. A. Belov, Yu. S. Aleksandrovich
Anesthesia using the pharmacologicalmodel-based calculations of plasma drugconcentrations 3
Intensive Care to Surgical PatientsI. M. Samokhvalov, V. V. Boyarintsev,S. V. Gavrilin, N. S. Nemchenko, G. L. Gerasimov, D. P. Meshakov, S. V. Nedomolkin, S. A. Smirnov
Traumatic disease: prospects for improvinganesthetic and resuscitative care(Communication Three) 9
A. U. Lekmanov, L. I. Budkevich, V. V. Soshkina, S. F. Pilyuti
Informative value of monitoring pro- andanti-inflammatory cytokines for the diagnosis of sepsis in children with exten-sive burns 16
R. V. Akopyan
Intraabdominant pressure as an indicatoraffecting overall mortality in surgicalpatients in intensive care units 21
P. I. Mironov
Methodology for assessing and ways ofimproving the quality of intensive care 30
Multicenter research
Yu. S. Polushin, D.N. Protcenko, S.S. Petrikov, Ye.P. Makarenko
The practice of infusion therapy in medicalinstitutions of the Russian Federation 38
For practitioners
V. A. Rudnov
A basic complex of intensive therapy forsevere sepsis and septic shock with regardto current recommendations (communica-tion two) 42
A. M. Shilov, M. V. Melnik, A. O. Osiya,M. G. Selezneva
Myocardial infarction: classification, clini-cal picture, and diagnosis 50
History of anesthesiology and reanimatology
Yu. S. Polushin
Anesthesia and anti-shock therapy duringthe second world war (to the 65 anniver-sary of the completion of the SecondWorld War) 59
Content

3
Плановая и экстренная анестезиология
АНЕСТЕЗИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСЧЁТА ПЛАЗМЕННЫХКОНЦЕНТРАЦИЙ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙВ. Г. Сальников1,2, К. Ю. Красносельский1,2, Н. Р. Ширинбеков2, А. А. Белов2, Ю. С. Александрович1
ANESTHESIA USING THE PHARMACOLOGICAL MODEL-BASED CALCULATIONS OF PLASMA DRUG CONCENTRATIONS V. G. Salnikov1,2, K. Yu. Krasnoselsky1,2, N. R. Shirinbekov2, A. A. Belov2, Yu. S. Aleksandrovich1
Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия1, Клиническая больница № 122 им. Л. Г. Соколова2, г. Санкт-Петербург
В настоящее время в клинической анестезиологии расчёт дозы анестетиков и миорелаксантовпроводят в основном исходя из массы тела и возраста пациента. Цель исследования – изучение осо-бенностей течения анестезии при использовании разных способов введения лекарственных средстви расчёте дозы анестетиков на основе концентрации препарата в плазме крови. Показано, что расчётдозы анестетиков и миорелаксантов на основе фармакологических моделей и концентрации препа-ратов в плазме крови при помощи программы TIVAManagerPro, разработанной авторами, позволяетпрогнозировать течение анестезии и избежать избыточного или недостаточного введения лекарст-венных средств. Мониторирование энтропии спектральной мощности и перфузионного индекса всочетании с оценкой концентраций препаратов для анестезии могут быть рекомендованы для мони-торинга анестезии в клинической практике.
Ключевые слова: анестезия, инфузия по целевой концентрации, расчётная плазменная концентрация,энтропия спектральной мощности, перфузионный индекс.
In clinical anesthesiology, the doses of anesthetics and myorelaxants are now calculated mainly froma patient’s weight and age. The purpose of the investigation was to study the specific features of the courseof anesthesia in the use of various routes of drug administration routes and in the calculation of a dose ofanesthetics from plasma drug concentrations. The calculation of the doses of anesthetics and myorelax-ants, by using pharmacological models and plasma drug concentrations by the TIVAManagerPro programelaborated by the authors, makes it possible to predict the course of anesthesia and to avoid abundant orinadequate drug administration. Monitoring the entropy of spectral power and perfusion index in combi-nation with estimation of drug concentrations for anesthesia may be recommended for the monitoring ofanesthesia in clinical practice.
Key words: anesthesia, target-concentration infusion, calculated plasma concentration, entropy of spectral power, per-fusion index.
В настоящее время в клинической анестезиоло-гии наиболее часто расчёт дозы анестетиков и мио-релаксантов проводят на основе массы тела и воз-раста пациента [1, 2, 11]. В то же время более точ-ным является дозирование препаратов, основанноена концентрации анестетика в плазме крови, кото-рую должны оценивать на протяжении всего хирур-гического вмешательства [19]. Подобный подходреализуется путём использования фармакологиче-ских моделей препаратов или систем инфузии поцелевой концентрации (ИЦК). На основе этой кон-цепции были созданы инфузионные системы TCI Target Controlled Infusion, которые широко исполь-зуются [12, 14].
С момента появления первой коммерческойИЦК-системы для пропофола «Диприфьюзор»,созданной на основе работ M. White и G. Kenny,накопился достаточный клинический опыт ихприменения, позволивший выявить ряд преиму-ществ данной концепции [17, 18, 25]. В частности,это простота в использовании, быстрое введение ванестезию, снижение риска развития гемодинами-ческих осложнений, адекватная коррекция кон-центрации препарата в соответствии с инвазив-ностью манипуляций, предсказуемое восстанов-ление сознания, снижение затрат на проведениевнутривенной анестезии [3, 6, 23].
Все используемые системы инфузии по целе-

вой концентрации преимущественно ориентирова-ны на подбор дозы единственного анестетика, в товремя как современное анестезиологическое обес-печение обязательно включает «анестезиологиче-скую тетраду»– анальгезию, гипноз, миорелакса-цию и вегетативную защиту [15, 27].
Вместе с тем исследования с использованиемфармакологических моделей, в которых анализи-руется совместное введение анальгетиков, гипно-тиков и миорелаксантов, весьма немногочислен-ны, а полученные в них данные носят рекоменда-тельный характер и соответствуют II и лишь иног-да III уровню достоверности, что не позволяетшироко использовать их в практической деятель-ности. Кроме этого, учитывая, что рекомендуемыеконцентрации анестетиков в плазме кровизадаются в определённых диапазонах, крайне важ-ным является сопоставление вводимой дозы ане-стетика с показателями состояния пациента [19].
Также следует отметить, что исследования поинтраоперационному мониторингу степени миоп-легии в сочетании с одновременным анализомконцентрации анестетиков в плазме крови отсут-ствуют. Это и послужило основанием для выпол-нения настоящей работы.
Цель исследования – изучение особенностейтечения анестезии при разных способах введениялекарственных средств и расчёте дозы анестетиковна основе концентрации препарата в плазме крови.
Материалы и методы
Обследованы 57 женщин в возрасте от 28 до45 лет, которым были выполнены плановые лапа-роскопические оперативные вмешательства наорганах малого таза. Риск анестезии соответство-вал I и II степени по классификации ASA.
В зависимости от метода введения анестетикавсе пациентки были разделены на три группы. Впервой группе анестезию обеспечивали болюсны-ми введениями препаратов, во второй – послевводной анестезии её поддерживали микроструй-ным введением анестетиков при помощи дозатораДШВ 1, а в третьей – анестетики вводили какболюсно, так и микроструйно. У пациенток пер-вых двух групп изучали особенности течения ане-стезии в зависимости от способа подачи анестети-ков, а в третьей – эффективность миоплегии придозировании миорелаксантов на основе их кон-центрации в плазме крови. Общая характеристикапациенток приведена в табл. 1.
По возрасту и массе тела статистически значи-мых различий в группах не выявлено.
В качестве премедикации за 12 ч до операции всемпациенткам перорально назначали феназепам в дозе 1 мг, за 30–40 мин внутримышечно вводили седуксен(10 мг), а на операционном столе – атропин (0,5 мг) ифентанил в дозе 2,5–3,5 мкг/кг (внутривенно).
Индукцию анестезии осуществляли болюс-ным внутривенным введением пропофола(2,5–3,5 мг/кг), а миоплегию – рокурония броми-да (Эсмерон®) в дозе 0,6–0,7 мг/кг. Поддержаниеанестезии обеспечивали болюсным введениемфентанила 0,89 (0,79–0,91) мкг/кг и пропофола0,91 (0,86–1,19) мг/кг. При использовании дозато-ров фентанил вводили со скоростью 3,87 (3,52–4,41)мкг/(кг•ч-1), а пропофол – 4,36 (3,90–5,20)мг/(кг•ч-1). Поддержание миоплегии осуществлялиболюсными введениями рокурония из расчёта 0,16 (0,14–0,19) мг/кг. На протяжении всего опера-тивного вмешательства проводили ИВЛ кислород-но-закисной смесью в соотношении 1 : 2.
Дозы препаратов рассчитывали при помощи про-граммы TIVAManagerPro, разработанной авторами.Расчёт концентраций осуществляли на основе фар-макологических моделей, предложенных J. C. Scott,Stanski [22] – для фентанила и E. Gepts et al. [13] –для пропофола. Дозы миорелаксанта определялисогласно рекомендациям производителя с использо-ванием фармакологической модели [24, 26].
Исследование проводили в девять этапов:исходное состояние при поступлении в операцион-ную (1), после введения в анестезию (2), во времяинтубации трахеи (3), перед разрезом кожи (4), вовремя разреза кожи (5), на травматичном этапеоперации (6), на нетравматичном этапе операции(7), при пробуждении (8), после восстановленияэффективного самостоятельного дыхания (9).
Под термином «эффективное самостоятельноедыхание» подразумевали способность пациенткиобеспечивать адекватное насыщение гемоглобинакислородом (не ниже 93%) при самостоятельномдыхании атмосферным воздухом.
На всех этапах исследования измеряли систоли-ческое, диастолическое и среднее артериальное дав-ление (АД), частоту сердечных сокращений (ЧСС),частоту дыхания (ЧД) и сатурацию гемоглобина кис-лородом (SрO2). Мониторинг указанных параметровосуществляли при помощи анестезиологическогомонитора «Кардиолан» (Россия). Для регистрациибиоэлектрической активности головного мозгаиспользовали электроэнцефалограф «Мицар-ЭЭГ-201» (Россия). Для анализа электроэнцефалограммыв соответствии с рекомендациями R. Nunes et al. [20]была выбрана методика оценки спектральной мощ-ности ЭЭГ, модернизированная нами. В качествекритерия оценки использовали интегральный пара-метр спектральной мощности, который был назван«энтропия спектральной мощности» (SN) [5]. Для
Вестник анестезиологии и реаниматологии 2010. Т. 7, № 3
4
Таблица 1Характеристики обследуемых групп

расчёта энтропии первоначально вычисляли относи-тельные значения спектральных мощностей для каж-дого диапазона. Влияние каждого диапазона наконечный результат было учтено после умноженияотносительных мощностей на весовые коэффициен-ты. После нормирования полученных значений былавычислена энтропия по формуле:
SN = 1/ln(4)* Σ(Pn)*ln(1/Pn),где n = ∆ , θ , α , β ; Pn – значение нормиро-
ванной спектральной мощности с учётом весовогокоэффициента.
С целью оценки перфузионного индекса (ПИ)использовали принципы плетизмографии, кото-рые широко применяются в пульсоксиметрии [4].Регистрируемое при помощи плетизмографиисужение сосудов на пальце – ранний и чувстви-тельный признак адренергической активности учеловека [16]. Динамическое исследование ПИпозволяет оценивать как действие анестетиков,так и реакцию ЦНС [7]. Анализ перфузионногоиндекса осуществляли при помощи собственного
программного обеспечения [8-10].Уровень миорелаксации оценивали только у
пациенток третьей группы путём мониторингаконцентрации миорелаксантов в плазме крови ипоказателей акселеромиографии, которую прово-дили при помощи акселеромиографа TOF-WatchSX (США).
Сравнительный анализ полученных данныхосуществляли при помощи непараметрическогознакового критерия, а корреляционный анализ – при помощи коэффициента корреляции Спирменас использованием программы Statistica 8.0. Данныепредставлены в виде медианы и интерквартильно-го размаха. Графические построения проводили впрограмме Microsoft Excel.
Результаты и обсуждение
В табл. 2 приведена динамика расчётных кон-центраций фентанила и пропофола в плазмекрови для первой и второй групп пациенток.
Плановая и экстренная анестезиология
5
Таблица 2Динамика концентрации фентанила и пропофола
Выявлено, что способ введения анестетиковоказывает существенное влияние на показатели
гемодинамики (табл. 3), электрическую активностьмозга и величину перфузионного индекса (табл. 4).
Примечание: + – значимое (p < 0, 05) отличие на этапе от значений из первой группы.
Таблица 3Динамика АДср и ЧСС на этапах периоперационного периода
Примечание: * – значимое (p < 0, 05) отличие от исходного состояния, + – значимое (p < 0,05) отличие на этапе от значенийиз первой группы.
Как показано в табл. 2, концентрация фентанилаи пропофола в плазме крови имеет чёткую зависи-мость от способа введения лекарственных средств.Это, прежде всего, отразилось на суммарной дозеанестетиков. Так, суммарная доза фентанила в пер-
вой группе составила 7,25 (6,21–8,74) мкг/(кг•ч-1), аво второй – 6,32 (6,02–7,37) мкг/(кг•ч-1), однако вы-явленные изменения были статистически незначи-мы. В то же время суммарная доза пропофола упациенток второй группы [6,99 мг/(кг•ч-1)] была

Таблица 4Динамика SN и ПИ на этапах периоперационного периода
Примечание: * – значимое (p < 0,05) отличие от исходного состояния, + – значимое (p < 0,05) отличие на этапе от значений изпервой группы, ^ – значимое (p < 0,05) отличие от предыдущего этапа, » – значимое (p < 0,05) отличие значений на 8-м и 9-мэтапах от значений на предыдущих этапах.
значимо выше по сравнению с показателями первойгруппы [5,54 мг/(кг•ч-1)], что явилось статистиче-ски значимым (p < 0,05).
Постоянная инфузия фентанила, начатаячерез 1 мин после болюсного введения на этапепремедикации, позволила увеличить его концент-рацию в плазме крови на 2, 3 и 7-м этапах.Снижение концентрации фентанила в плазмекрови у пациенток первой группы на 7-м этапеисследования связано с выходом из анестезии ирешением не вводить болюсы на этом этапе, чтобыне увеличивать концентрацию фентанила, как этопроисходило на 4-м и 5-м этапах (табл. 2), доизбыточных концентраций. Такие резкие измене-ния концентраций подчёркивают несовершенствоболюсной тактики введения препаратов.
На 6-м этапе значимых отличий в концентра-циях фентанила между группами не выявлено, аконцентрация пропофола была существенно выше упациенток второй группы. При этом изменения SN иПИ в первой группе незначимо отличались от значе-ний во второй, что позволяло предположить, чтохирургическое воздействие обе группы переносилиодинаково. На 7-м этапе концентрации пропофола ифентанила во второй группе значимо не отличалисьот 6-го этапа. А в первой группе уровень пропофолаостался на прежнем, значимо меньшем, чем во вто-рой группе, уровне. Кроме того, в первой группезначимо снизился уровень фентанила по сравнениюс 6-м этапом. Произошло значительное повышениеSN в первой группе на 7-м этапе по сравнению с пре-дыдущим, а также АДср по сравнению с исходнымсостоянием. Это может свидетельствовать о влия-нии фентанила на состояние электрической актив-ности головного мозга и, кроме того, о некоторойфазовой временной задержке между снижениемконцентрации пропофола на 6-м этапе и проявле-ниями этого снижения в виде повышения энтропииспектральной мощности на 7-м этапе.
Во второй группе поддержание концентрациифентанила на требуемом уровне происходило на
всех этапах периоперационного периода.Значимое снижение ПИ на 8-м и 9-м этапах в пер-вой группе демонстрирует повышенную ноцицеп-тивную активность у пациенток этой группы посравнению со второй. Это, в частности, подтвер-ждается послеоперационной оценкой боли повизуально-аналоговой шкале, которая у пациен-ток первой группы составила 1,5 (0–2) балла, а увторой – 0,5 (0–2) балла. Незначимая разницаэтих оценок демонстрирует, что величина ПИявляется более объективным показателем оценкиноцицептивного воздействия на пациента.
В первой группе пациенток среднее АД (табл. 3)существенно снижалось на 2-м и 3-м этапах, чтобыло статистически значимо по сравнению с исход-ными показателями (p < 0,05). Во второй группе этобыло характерно только на 3, 4 и 5-м этапах иссле-дования. В первой группе на 2-м и 3-м этапах (вве-дение в анестезию, интубация) доза препаратовбыла достаточно велика, что связано только с тех-нологией введения болюсов. В этом случае концент-рации препаратов колеблются в очень широких пре-делах, что влечёт за собой подобные изменения врегистрируемых параметрах мониторирования, вчастности АДср. Во второй группе значимое сниже-ние среднего АД происходило начиная с 3-го этапа,а затем на 4-м и 5-м этапах (интубация трахеи, передразрезом кожи, разрез кожи), что обусловлено вве-дением препаратов в соответствии с рекомендуемы-ми плазменными концентрациями при инвазивныхэтапах операции [19]. Адекватность выбраннойдозы препаратов инвазивности манипуляций про-веряли мониторируемыми величинами SN и ПИ и,соответственно, корректировали.
ЧСС у пациенток первой группы существенноснижалась на 4-м этапе (перед разрезом кожи) посравнению с исходными показателями, а во второйгруппе становилась ниже исходной на протяжении4, 5 и 6-го этапов.
На 7-м и 8-м этапах исследования ЧСС у паци-енток первой группы существенно выше, чем у
6
Вестник анестезиологии и реаниматологии 2010. Т. 7, № 3

Таблица 5Значения TOF и расчётных концентраций C1 (плазма крови) и Ceo (эффекторный компартмент)
рокурония в течение общей анестезии
При поддержании концентрации рокурония вплазме крови С1 = 1,38 (1,10–1,92) мкг/мл, Ceo =1,71 (1,39–2,16) мкг/мл достигалась полнаямиоплегия (TOF = 0%). Восстановление нервно-мышечного проведения в диапазоне от 1 до 19%происходило при значениях С1 = 0,86 (0,78–1,04)мкг/мл, Ceo = 1,07 (0,95–1,31) мкг/мл. Снижениеконцентраций эсмерона С1 до 0,78 (0,66–0,87)мкг/мл и Ceo до 0,94 (0,80–1,07) мкг/мл сопро-вождалось увеличением значений TOF до20–39%. Состояние нервно-мышечного проведе-ния устанавливалось в диапазоне от 40 до 59%при концентрациях миорелаксанта в плазмекрови С1 = 0,69 (0,61–0,79) мкг/мл и в эффек-торном компартменте Ceo = 0,83 (0,73–0,96)мкг/мл. Дальнейшая элиминация рокуронияприводила к снижению его концентраций С1 до0,67 (0,60–0,78) мкг/мл и Ceo до 0,80 (0,72–0,95)мкг/мл, что сопровождалось увеличением TOFдо 60–79%. Концентрации С1 = 0,00 (0,00–0,47)мкг/кг и Ceo = 0,00 (0,00–0,55) мкг/кг соответ-ствовали TOF = 80–100%, что означало полноевосстановление нервно-мышечного проведения.
На основе полученных данных был произведёнрасчёт коэффициента корреляции Спирмена.Обнаружена статистически значимая (p < 0,01)высокая корреляционная связь между значениямиTOF и С1 (R = –0,87), TOF и Ceo (R = –0,87).
Таким образом, дозирование миорелаксантовна основе их концентрации в плазме крови являет-ся достаточно надёжным методом расчёта дозы
указанных препаратов и позволяет обеспечить нетолько необходимый уровень миоплегии в интра-операционном периоде, но и избежать излишнеговведения миорелаксантов.
В заключение следует подчеркнуть, что дозиро-вание средств для анестезии и миорелаксантов наоснове их концентрации в плазме крови обеспечи-вает достаточный уровень всех компонентов ане-стезии на протяжении хирургического вмешатель-ства, в то время как широкие диапазоны дозлекарственных препаратов носят преимуществен-но рекомендательный характер. В частности, под-держивающая доза анестетика, рассчитанная начас, не всегда может гарантировать достаточныйклинический эффект, так как не отражает требуе-мой плазменной концентрации используемых пре-паратов [11]. Одним из существенных преиму-ществ расчёта дозы анестетиков и миорелаксантовна основе их концентрации в плазме крови пациен-та является безопасность пациента при пробужде-нии, что особенно важно, так как позволяет избе-жать неблагоприятных осложнений анестезии впослеоперационном периоде.
Выводы
1. Расчёт дозы анестетиков и миорелаксантовпри проведении анестезии на основе фармакологи-ческих моделей и концентрации препаратов в плаз-ме крови позволяет прогнозировать течение анесте-зии и избежать избыточного или недостаточного
пациенток второй, что, вероятнее всего, связано сдостоверно сниженной концентрацией пропофола впервой группе по сравнению со второй на 8-м этапе.
У пациенток первой группы энтропия спек-тральной мощности (табл. 4) на 2–6 этапах иссле-дования была значимо ниже по сравнению с пока-зателями 1, 7 и 8-м этапов. Во второй группе энтро-пия спектральной мощности также была суще-ственно ниже на 2–7 этапах исследования посравнению с 1, 8 и 9-м этапами, однако значимыхразличий на 2–7 этапах исследования не выявлено.
Перфузионный индекс (табл. 4) у пациентокпервой группы существенно превышал (p < 0,05)исходные показатели практически на всех этапахисследования, за исключением 7-го и 8-го, когдаон приближался к ним.
Во второй группе перфузионный индекс вышепоказателей первого этапа на 2–9 этапах исследо-вания, в то время как на 8-м и 9-м этапах он значи-тельно ниже показателей 2–6 этапов (p < 0,05).
Значимое снижение перфузионного индексана 8-м и 9-м этапах исследования у пациенток пер-вой группы по сравнению с показателями второйгруппы демонстрирует увеличение ноцицептив-ной импульсации и свидетельствует о недостаточ-ном анальгетическом эффекте у пациенток первойгруппы.
Также нами был проведён анализ эффективно-сти дозирования миорелаксантов на основе ихконцентрации в плазме крови пациентки путёмисследования мышечной активности, результатыкоторого представлены в табл. 5.
7
Плановая и экстренная анестезиология

введения лекарственных средств.2. Использование расчёта доз анестетиков и
миорелаксантов на основе их концентрации вплазме крови является гарантом безопасности наэтапе пробуждения и экстубации пациента и пред-отвращает развитие осложнений анестезии в ран-нем послеоперационном периоде.
3. Энтропия спектральной мощности ЭЭГ иперфузионный индекс отражают степень выражен-ности гипнотического и анальгетического эффектаанестезии и могут быть рекомендованы для монито-ринга глубины анестезии в клинической практике.
ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ:
Сальников Виталий Геннадьевич Санкт-Петербургская государственная педиатриче-ская медицинская академия, аспирант кафедры анестезиологии-реаниматологии и неотложной педиатрии ФПК и ПП. 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 2. Тел./факс: 591-79-19, 591-79-11. Клиническая больница № 122,Врач анестезиолог-реаниматолог. E-mail: [email protected].
Красносельский Константин Юрьевич Санкт-Петербургская государственная педиатриче-ская медицинская академия,ассистент кафедры анестезиологии-реаниматологии
и неотложной педиатрии ФПК и ПП.194100, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 2. Тел./факс: 591-79-19, 591-79-11. Клиническая больница № 122,врач анестезиолог-реаниматолог. E-mail: [email protected].
Ширинбеков Назим Расимович Клиническая больница № 122,врач анестезиолог-реаниматолог.194291, г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 4.Тел.: 559-97-35.E-mail: [email protected].
Белов Алексей АнатольевичКлиническая больница № 122,врач анестезиолог-реаниматолог,194291, г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 4.Тел.: 559-97-35.E-mail: [email protected].
Александрович Юрий СтаниславовичСанкт-Петербургская государственная педиатриче-ская медицинская академия,заведующий кафедрой анестезиологии-реаниматологиии неотложной педиатрии ФПК и ПП.
194100, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 2. Тел./факс: 591-79-19, 591-79-11.E-mail: [email protected].
1.Анестезия в педиатрии: Пер. с англ. / Под ред. Джорджа А.Грегори. – М.: Медицина, 2003. – 1192 c.
2.Бунатян А. А. Рациональная фармакоанестезиология:Руководство для практикующих врачей. – М.:Литтерра, 2006. – Т. 14. – 800 с.
3.Бунятян А. А., Трекова Н. А., Флёров Е. В. Тотальная внут-ривенная анестезия пропофолом по целевой концент-рации // Вестник интенсивной терапии. – 1999. – № 3.– С. 75-76.
4.Калакутский Л. И., Манелис Э. С. Аппаратура и методыклинического мониторинга: Учебное пособие. –Самара: Самар. гос. аэрокосм. ун-т., 1999. – 161 с.
5.Красносельский К. Ю. Мониторинг и управление термо-продукцией в периоперационном периоде: Автореф.дис. ... канд. мед. наук. – СПб., 2009. – 22 с.
6.Лихванцев В. В., Субботин В. В., Ситников А. В. и др. ИЦКи автоматизированная система анестезии на основедипривана // Вестник интенсивной терапии. – 2000. –№ 3. – С. 58-61.
7.Ширинбеков Н. Р. Мониторинг спектральной мощностиэлектроэнцефалограммы и амплитуды пульсовойволны в интраоперационном периоде: Автореф. дис. ...канд. мед. наук. – СПб., 2009. – 22 с.
8.Ширинбеков Н. Р., Сальников В. Г., Александрович Ю.С. идр. Программа для ЭВМ AMPUWAVE //
Свидетельство о государственной регистрации про-граммы №2008610751. Зарегистрировано в Реестрепрограмм для ЭВМ 13 февраля 2008 г.
9.Ширинбеков Н. Р., Сальников В. Г., Александрович Ю. С. идр. Программа для ЭВМ TIVAManagerPro //Свидетельство о государственной регистрации про-граммы №2009615540. Зарегистрировано в Реестрепрограмм для ЭВМ 6 октября 2009 г.
10.Ширинбеков Н. Р., Сальников В. Г., Красносель-ский К. Ю. и др. Сравнительная оценка параметров ЭЭГи перфузионного индекса на различных этапах перио-перационного периода // Сборник докладов и тезисовIV съезда анестезиологов и реаниматологов Северо-Запада России. – СПб, 8-10 октября 2007. – С. 151-152.
11.Федеральное руководство по использованию лекарствен-ных средств (формулярная система) // Под ред. А. Г. Чучалина, А. И. Вялкова, Ю. Б. Белоусова, В. В. Яснецова. – Выпуск V. – М: "ЭХО", 2004. – 944 с.
12.Chaudhri S., White M., Kenny G.N.C. Induction of anaes-thesia with propofol using a target controlled infusion sys-tem // Anaesthesia. – 1992. – Vol. 47. – P. 551-553.
13.Gepts E. Camu F., Cockshott I. D. et al. Disposition of propofoladministered as constant rate intravenous infusions inhumans // Anesth. Analg. – 1987. – Vol. 66. – P. 1256-1263.
14.Glass P. S., Glen J. B., Kenny G. N. et al. Nomenclature for
Литература
8
Вестник анестезиологии и реаниматологии 2010. Т. 7, № 3

9
Реаниматологическая помощь больным хирургического профиля
computer-assisted infusion devices // Anesthesiology. –1997. – Vol. 86, № 6. – P. 1430-1431.
15. Gray T. C., Rees G. J. // Br. Med. J. – 1952. – Oct. 25. – 2 (4790). – P. 891-892.
16.Johnstone M. Digital vasodilatation: a sign of anaesthesia //British Journal of Anaesthesia. – 1974. – Vol. 46, № 6. – P. 414-419.
17.Kenny G. N., Davies F. W., Mantzardis H. et al. Closed-loopcontrol of anesthesia // Anesthesiology. – 1992. – Vol. 77.– Р. 328.
18.Kenny G. N., White M. A portable computerised infusionsystem for propofol // Anaesthesia. – 1990. – Vol. 45. – P. 692–693.
19.Miller R. D. Miller's Anesthesia // USA: ELSEVIERChurchill, Livingstone, 2009. – 3312 p.
20.Nunes R. R., Almeida M. P., Sleigh J. W. Spectral entropy: anew method for anesthetic adequacy // Brazilian Journalof Anesthesiology. – 2004. – Vol. 54, № 3. – P. 404-422.
21.Russell D., Wilkes M. P., Hunter S.C. et al. Manual comparedwith target controlled infusion of propofol // Br. J.Anaesth. – 1995. – Vol. 75. – P. 562-566.
22.Scott J. C., Stanski D. R. Decreased fentanyl and alfentanildose requirements with age. A simultaneous pharmacoki-
netic and pharmacodynamic evaluation // J. Pharmacol.Exp. Ther. – 1987. Vol. 240. – P. 159-166.
23.Shao-hua L., Wei, D W., Guan-nan et al. Relationshipbetween depth of anesthesia and effect-site concentrationof propofol during induction with the target-controlledinfusion technique in elderly patients // Chinese Med. Jl. 2009. – Vol. 122, № 8. – P. 935-940.
24.Vermeyen K. M., Hoffmann V. L., Saldien V. Target con-trolled infusion of rocuronium: analysis of effect data toselect a pharmacokinetic model // Br. J. Anaesth. – 2003.– Vol. 90, № 2. – P. 183-188.
25.White M., Kenny G. N. Intravenous propofol anaesthesiausing a computerised infusion system // Anaesthesia. –1990. – Vol. 45, № 3. – P. 204-209.
26.Wierda J. M., Kleef U. W., Lambalk L. M. et al. The pharma-codynamics and pharmacokinetics of Org 9426, a newnon depolarizing neuromuscular blocking agent, inpatients anaesthetized with nitrous oxide, halothane andfentanyl // Can. J. Anaesth. – 1991. – Vol. 38, № 4. –P.430-435.
27.Woodbridge P. D. Changing concepts concerning depth ofanesthesia //Anesthesiology. – 1957. – Vol. 18, № 4. –P. 536-550.
ТРАВМАТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ: ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЙ И РЕАНИМАТОЛОГИЧЕСКОЙПОМОЩИ(СООБЩЕНИЕ ТРЕТЬЕ)
И. М. Самохвалов1, В. В. Бояринцев2, С. В. Гаврилин1, Н. С. Немченко1, Г. Л. Герасимов1, Д. П. Мешаков1, С. В. Недомолкин1, С. А. Смирнов1
TRAUMATIC DISEASE: PROSPECTS FOR IMPROVING ANESTHETIC ANDRESUSCITATIVE CARE (COMMUNICATION THREE)
I. M. Samokhvalov1, V. V. Boyarintsev2, S. V. Gavrilin1, N. S. Nemchenko1, G. L. Gerasimov1, D. P. Meshakov1, S. V. Nedomolkin1, S. A. Smirnov1
Кафедра военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова1, г. Санкт-ПетербургГосударственный институт усовершенствования врачей МО РФ2, г. Москва
Проведённый анализ некоторых лечебно-диагностических, организационных и экономических про-блем, имевших место при оказании анестезиологической и реаниматологической помощи пострадавшимс тяжёлыми сочетанными травмами в травмоцентре первого уровня, показал, что перспективы её разви-тия в настоящее время связаны с разработкой и внедрением протоколов и стандартов лечения, соблюде-нием принципа эшелонирования данного вида помощи, совершенствованием регламентирующих доку-ментов. Для дальнейшего улучшения лечения пострадавших необходим комплексный подход: наряду санестезиологами-реаниматологами и хирургами необходимо сотрудничество со специалистами в областиорганизации и финансирования здравоохранения.
Ключевые слова: травматическая болезнь, лечебно-диагностические проблемы, травмоцентры, организационнаяпроблема, фармакоэкономические затраты.

В наших предыдущих сообщениях, посвящён-ных состоянию проблемы травматической болез-ни, указывалось, что успехи в лечении пострадав-ших с тяжёлыми травмами в настоящее времяобусловлены более чётким соблюдением принци-па дифференцированности анестезиологическойи реаниматологической помощи в зависимости отвариантов течения постшоковых периодов, внед-рением тактики «damage control anesthesia» приоказании помощи пациентам с наиболее тяжёлы-ми повреждениями [9, 10]. Кроме того, ряд отече-ственных авторов указывают на значимость вулучшении качества лечения пострадавших стяжёлыми сочетанными травмами таких состав-ляющих, как вне- и внутригоспитальное эшелони-рование анестезиологической и реаниматологиче-ской помощи [1], балльная объективная оценкатяжести повреждения, состояния, риска развитияосложнений [5], объективизация и разумное огра-ничение показаний к «агрессивным» методаминтенсивной терапии (ИВЛ, экстракорпоральнаягемокоррекция) [11], внедрение протоколов лече-ния и мониторинга, учёт положений доказатель-ной медицины [7], новые технологии в интенсив-ной терапии ОРДС и тяжёлого сепсиса [8].Значительное количество современных зарубеж-ных исследований, посвящённых лечению постра-давших с политравмами, продолжают затрагиватьпроблему синдрома полиорганной недостаточно-сти. В частности, выделяется такое относительноновое звено патогенеза данного синдрома, какэндотелиальная недостаточность [16], подчёрки-вается клиническая значимость коагулопатий ипосттравматического воспаления в срыве компен-сации основных регуляторных систем организма– нервной, эндокринной и иммунной [13, 15]. Вцелом, в реалиях сегодняшнего времени большаячасть отечественных работ о травматическойболезни преимущественно затрагивает конкрет-ные лечебно-организационные вопросы, в товремя как иностранные авторы стали больше вни-мания уделять вопросам патогенеза тяжёлой трав-мы, опираясь на новые методы исследования, втом числе и с привлечением нанотехнологий.Большинство исследователей отмечают отсут-
ствие значимого улучшения результатов леченияпострадавших с политравмами в течение послед-него десятилетия.
Цель исследования – анализ некоторыхлечебно-диагностических, организационных иэкономических проблем, имевших место при ока-зании анестезиологической и реаниматологиче-ской помощи пострадавшим с тяжёлыми сочетан-ными травмами в травмоцентре первого уровня напротяжении последних шести лет.
Материалы и методы
Проанализированы истории болезни 205пострадавших (2007–2009 гг., массив № 1), имев-ших тяжесть повреждений 6,8 ± 1,1 балла пошкале ВПХ–П (23,6 ± 0,4 балла по шкале ISS)(повреждение тяжёлое), тяжесть состояния припоступлении в стационар – 30,4 ± 2,3 балла пошкале ВПХ–СП (состояние тяжёлое). При этом,как указывалось в предыдущих наших сообще-ниях, у 101 (49,3%) пострадавшего травматиче-ская болезнь протекала по наиболее тяжёломуварианту – с развитием жизнеугрожающихосложнений и клиническим отсутствием периодаотносительной стабилизации жизненно важныхфункций (вариант III течения травматическойболезни). Кроме того, для сравнительного анализаиспользовали данные об особенностях оказанияанестезиологической и реаниматологическойпомощи 621 пострадавшему с тяжёлой сочетаннойтравмой (2004–2006 гг., массив № 2). Тяжестьполученных повреждений у пострадавших данно-го массива составляла 5,9 ± 0,3 балла по шкалеВПХ–П (22,3 ± 0,2 балла по шкале ISS), тяжестьсостояния при поступлении в клинику – 28,3 ± 0,9балла по шкале ВПХ–СП. Статистически значи-мых различий данных показателей между пациен-тами обоих массивов не было (р > 0,05). ВариантIII течения травматической болезни имел место у288 (46,4%) пострадавших массива № 2.
Так же, как и в двух предыдущих сообщенияхо травматической болезни, расчёты производили спомощью прикладных программ Excel и Statisticafor Windows 6.0, тест Шапиро – Уилка использо-
Вестник анестезиологии и реаниматологии 2010. Т. 7, № 3
10
The analysis of some therapeutic-and-diagnostic, organizational, and economic problems arisingfrom anesthetic and resuscitative care given to victims with severe concomitant injuries in a level-one trauma centre has shown that the prospects for its development are presently associated with theelaboration and introduction of treatment protocols and standards, with the observance of the prin-ciple of the echeloning of this type of care, and with the improvement of regulating documents.Further treatment improvement in the victims requires a comprehensive approach: anesthesia-resus-citation specialists and surgeons must collaborate with specialists in the organization and financingof health care.
Key words: traumatic disease, therapeutic and diagnostic problems, trauma centers, organizational problem, pharma-coeconomic costs.

11
Реаниматологическая помощь больным хирургического профиля
вали для оценки нормальности распределения.Данные с нормальным распределением представ-лены в виде среднего ± стандартного отклонения(М ± m), а при неправильном распределении – ввиде медианы с 25% и 75% процентилями.Статистически значимыми различиями считалирезультаты, при которых значения критерия соот-ветствовали условию р < 0,05.
Результаты и обсуждение
Лечебно-диагностические проблемы1. Гемотрансфузии в остром периоде травма-
тической болезни при кровопотере крайне тяжё-лой степени.
Согласно действующей «Инструкции по при-менению компонентов крови» (утверждена прика-зом Минздрава РФ от 25.11.2002 № 363)«Показаний к переливанию цельной консервиро-ванной донорской крови нет, за исключением слу-чаев острой массивной кровопотери, когда отсут-ствуют кровезаменители или плазма свежезаморо-женная, эритроцитарная масса или взвесь». Вместес тем переливание цельной свежестабилизирован-ной крови широко и эффективно применялосьсоветскими медиками в годы Афганской войны [2].Ряд отечественных и зарубежных исследованийпоследних лет также подтверждает мнение боль-шинства практических анестезиологов-реанимато-логов о том, что при острой массивной кровопотере
крайне тяжёлой степени [более 60% объема цирку-лирующей крови (ОЦК)] цельная свежестабилизи-рованная донорская кровь (ЦСДК) является пре-паратом выбора. Так, Ю. С. Полушин (2004)сообщает о том, что при использовании ЦСДК ввышеуказанной ситуации по сравнению с примене-нием эритроцитарной массы или взвеси отмечаетсяболее быстрая стабилизация гемодинамики, дли-тельность травматического шока уменьшается всреднем на 2 ч, на 19% снижается нуждаемость вповторных гемотрансфузиях [6]. По сообщениямамериканских специалистов, при оказании помощи2104 раненым с тяжёлой огнестрельной травмой вовремя локальной войны в Ираке ЦСДК была при-менена у 351 (17%) раненого. При этом использо-вание ЦСДК обеспечивало снижение летальностина 7,3%, уменьшение частоты развития ОРДС исиндрома острого повреждения почек на 16% [14].
В клинику военно-полевой хирургии ВМедАим. С. М. Кирова в 2008–2009 гг. поступили 43пострадавших с политравмами, сопровождавши-мися острой массивной кровопотерей крайнетяжёлой степени (более 60% ОЦК), что составило7,2% от всего входящего потока пациентов с тяжё-лыми травмами и ранениями. Решением конси-лиума у 11 (1,9%) из этих пострадавших для вос-полнения кровопотери в противошоковой опера-ционной, наряду с эритроцитарной взвесью, при-меняли ЦСДК. Результаты данной тактики транс-фузионной терапии представлены в табл. 1.
Таблица 1Показатели трансфузионной терапии (M ± m) при восполнении острой массивной кровопотери крайне
тяжёлой степени (более 60% ОЦК) в остром периоде травматической болезни
Примечание: * – статистически достоверные различия между показателями, р < 0,05.
Данные табл. 1 свидетельствуют о том, чтовключение ЦСДК в программу интенсивной тера-пии острой массивной кровопотери крайне тяжё-лой степени сопровождается значимым (на 13,8%)снижением летальности, причём преимуществен-но в первые сутки травматической болезни.
Таким образом, одной из проблем оказания ане-стезиологической и реаниматологической помощипострадавшим с политравмами является явное несо-ответствие регламентирующих трансфузиологиче-скую тактику документов реалиям клиническойпрактики. Для решения данной проблемы представ-

ляется целесообразным предусмотреть в регламен-тирующих документах возможность использованияв ряде случаев ЦСДК в лечении пострадавших сполитравмами.
2. Полипрагмазия при интенсивной терапиитяжёлой травмы.
По данным Н. Д. Клочкова и И. В. Тимофеева(1998), излишние назначения лекарственных пре-паратов являются причиной летальных исходов у1,4% умерших пациентов в стационарах хирургиче-ского профиля [3]. Тот факт, что одной из современ-ных тенденций реаниматологической помощиявляется её разумная минимизация, в настоящеевремя не вызывает сомнений. Наиболее ярко этатенденция проявилась в интенсивной терапиипострадавших с тяжёлой черепно-мозговой трав-мой. Так, по мнению А. В. Щёголева (2009), интен-сивная терапия у данного контингента должнавключать респираторную поддержку, седацию,анальгезию, энергопластическое обеспечение и про-филактику инфекционных осложнений.Подчёркивается, что использование «агрессивных»методов мониторинга и коррекции внутричерепно-го давления при компенсированных и декомпенси-рованных вариантах течения тяжёлой черепно-моз-говой травмы не показано и может быть рекомендо-вано только при субкомпенсированном вариантетечения повреждения [12]. Вместе с тем опыт лече-ния пострадавших с тяжёлыми травмами показал,что, как это ни странно, минимизация медикамен-тозной терапии в наибольшей степени характернадля травмоцентров первого уровня. Одним из пер-вых действий в лечении пострадавших, переведён-ных в клинику военно-полевой хирургии из другихлечебных учреждений, является отмена значитель-ной части лекарственных препаратов. Анализ наше-го материала показал, что целенаправленное стрем-ление к отказу от полипрагмазии выразилось в дву-кратном снижении числа применяемых препаратов:если у пострадавших массива № 2 (2004–2006 гг.)при их нахождении в ОРИТ ежедневно в среднемприменялось 20 ± 2 препарата, то у пациентов мас-сива № 1 (2007–2009 гг.) – только 11 ± 1 лекарст-венное средство (р < 0,05). Причём на уровнелетальности и сроках лечения в отделении интен-сивной терапии отказ от частого назначения постра-давшим с тяжёлой сочетанной травмой таких пре-паратов, как внутривенно и внутримышечно вводи-мые витамины (вводятся вместе с полисубстратны-ми питательными смесями энтерально), концентри-рованные растворы глюкозы (20–30%), высокиедозы глюкокортикоидов, эуфиллин, сердечные гли-козиды, анаболические стероиды, эссенциале, осмо-тические диуретики, совершенно не отразился.
Одним из потенциально наиболее опасныхвариантов полипрагмазии является нерациональ-ное расширение показаний к агрессивным методаминтенсивной терапии, в частности к длительной
ИВЛ. Внедрение в практику клиники военно-поле-вой хирургии объективной методики определенияпоказаний к длительной ИВЛ позволило сократитьчастоту её применения у пострадавших массива № 1по сравнению с пострадавшими массива № 2 с 60,1до 46,8%. Это сопровождалось снижением частотыосложнений со стороны системы внешнего дыханияна 32,7%, летальности на 0,7%, сроков лечения вотделении интенсивной терапии с 12,3 ± 0,7 сутокдо 10,8 ± 0,4 суток (р < 0,05) [4].
В целом, основными направлениями дальней-шего сокращения полипрагмазии могут быть: во-первых, введение разумной стандартизации про-граммы интенсивной терапии; во-вторых, болееширокое применение критериев доказательноймедицины.
3. Антибактериальная профилактика и анти-бактериальная терапия – несовпадение клиниче-ских критериев эффективности и лабораторногоконтроля.
Обязательными мероприятиями при примене-нии антибактериальных препаратов у пострадав-ших с тяжёлыми сочетанными травмами, наряду спериодической ротацией препаратов эмпириче-ской антибактериальной терапии и применением(по строгим показаниям) деэскалационной схемыиспользования антибиотиков, является микро-биологический мониторинг.
Одной из проблем данного направления интен-сивной терапии у пострадавших является нередкоенесовпадение чувствительности микрофлоры к кон-кретным антибиотикам in vivo и in vitro. По нашимданным, у 19,9% пострадавших массива № 2 приявной чувствительности к антибиотикам in vitroназначение препаратов в соответствии с антибиоти-кограммой не сопровождалось положительным кли-ническим эффектом (снижение лейкоцитоза, умень-шение сдвига лейкоцитарной формулы в сторонуюных форм, снижение температуры тела). У 5,0%пострадавших массива № 2 ситуация была противо-положной: назначенный антибиотик был эффектив-ным in vivo, что не подтверждалось при исследова-нии in vitro. Актуальность рассматриваемой пробле-мы ещё больше возрастает вследствие того, что внастоящее время данная тенденция несовпаденияклинических и лабораторных данных усилилась: у30,2% пострадавших массива № 1 антибиотик поданным, полученным in vitro, был показан к приме-нению, а in vivo оказывался неэффективным. У20,0% пострадавших данного массива ситуация былапротивоположной. Следует отметить, что у постра-давших обоих массивов несовпадение данных анти-биотикограммы и клинического эффекта в ту и дру-гую сторону в подавляющем большинстве случаевкасалось таких микроорганизмов, как Acinetobactersp., Pseudomonas aeruginosa, K. pneumoniae.
По нашему мнению, в реалиях сегодняшнеговремени решение вышеописанной проблемы может
Вестник анестезиологии и реаниматологии 2010. Т. 7, № 3
12

Таблица 2Особенности течения травматической болезни у пострадавших, переведённых в клинику военно-полевой
хирургии из травмоцентров II–III уровней (n = 131)
быть только одним: чёткое соблюдение приоритет-ности клинических данных перед лабораторными.
Организационная проблемаМежгоспитальное эшелонирование анестезио-
логической и реаниматологической помощи.В настоящее время отсутствуют сомнения в
необходимости и целесообразности реализациипринципа межгоспитального эшелонирования ане-стезиологической и реаниматологической помощипострадавшим с тяжёлой сочетанной травмой.Согласно данному принципу, в травмоцентрах III иII уровней должна оказываться, соответственно, ква-лифицированная анестезиологическая и реанимато-логическая помощь (III уровень), специализирован-ная анестезиологическая и специализированная реа-ниматологическая помощь в минимальном и сокра-щённом объёмах (II уровень). Все пострадавшие,нуждающиеся в оказании специализированной реа-ниматологической помощи в полном объёме, долж-ны концентрироваться в травмоцентрах I уровня. Вслучае первоначальной госпитализации этого кон-тингента в лечебные учреждения с более низкимуровнем оказания данной помощи после короткойпредэвакуационной подготовки (не позднее 48 ч –времени окончания второго периода травматиче-ской болезни – периода относительной стабилиза-ции жизненно важных функций) такие пациентыдолжны переводиться в травмоцентры I уровня.
Современное состояние данной проблемы вдинамике иллюстрируется данными, представ-ленными в табл. 2. Они свидетельствуют о том,что за последние годы существенного изменения влучшую сторону в плане своевременности перево-да в травмоцентр I уровня пострадавших с тяжё-лыми сочетанными травмами, нуждающихся вспециализированной реаниматологической помо-щи в полном объёме, не произошло:
– почти половина пациентов продолжает пере-водиться в неблагоприятном третьем периодетравматической болезни – периоде максимальнойвероятности развития осложнений;
– попытки расширения объёма реаниматоло-гической помощи в травмоцентрах II–III уровнейсопровождаются усугублением тяжести состоя-ния пострадавших;
– поздние переводы пациентов в травмоцентрI уровня обусловливают увеличение частоты исроков длительной ИВЛ, времени лечения в отде-лении интенсивной терапии;
– при отсутствии достоверных различий втяжести полученных повреждений летальность унесвоевременно переведённых пациентов болеечем в два раза выше по сравнению с пострадавши-ми, переведёнными в травмоцентр I уровня впериод относительной стабилизации жизненноважных функций (не позднее 48 ч от моментаполучения травмы).
Примечание: * – статистически достоверные различия между показателями подгруппы 1 и подгруппы 2 одного массива, р < 0,05.
С учётом того, что, по нашим данным, более90% переведённых пострадавших получили трав-мы в дорожно-транспортных происшествиях, пер-спективы решения данной особо актуальной орга-низационной проблемы напрямую связаны с мак-симально быстрой реализацией существующей
Государственной программы по борьбе с дорожно-транспортным травматизмом.
Экономическая проблемаОптимизация фармакоэкономических затрат
при оказании реаниматологической помощипострадавшим с политравмой.
Реаниматологическая помощь больным хирургического профиля
13

Реализация «агрессивной» реаниматологиче-ской тактики у пострадавших с наиболее тяжёлымвариантом III течения травматической болезни (сразвитием жизнеугрожающих осложнений и кли-ническим отсутствием второго периода) законо-мерно сопровождается увеличением финансовыхзатрат на лечение этих пациентов в первые троесуток пребывания в стационаре. Так, по нашимданным, с учётом действующих в рамках ОМСрасценок, проведение таких мероприятий, какмалообъёмная реанимация, сбалансированнаяинфузионная терапия, деэскалационная антибак-териальная терапия, полное парентеральное пита-ние, инвазивный гемодинамический мониторинг,обусловливает увеличение затрат на лечениепострадавших с вариантом III течения травмати-ческой болезни в указанные сроки в среднем на83861,4 ± 268,9 рубля, т. е. на 37,1%.
Однако следует учитывать, что основной такти-ческой задачей оптимизированной интенсивнойтерапии у пострадавших с вариантом III течениятравматической болезни является профилактикаразвития тяжёлого сепсиса и ОРДС – основныхпричин летальных исходов в периоде максимальнойвероятности развития осложнений. Традиционнаяинтенсивная терапия при описываемом вариантетечения травматической болезни сопровождаетсяразвитием вышеуказанных осложнений у 46,4%пациентов, а оптимизированная – только у 20,7%пострадавших. Основной финансовой составляю-щей интенсивной терапии тяжёлого сепсиса иОРДС являются затраты на проведение антибакте-риальной терапии, иммуноориентированной тера-пии, длительной ИВЛ. Данные лечебные мероприя-тия с учётом сроков их проведения влекут за собойувеличение затрат на лечение каждого пациента вотделении интенсивной терапии суммарно в сред-нем на 178803,5 ± 357,8 рубля, т. е. на 83,8%, посравнению с пострадавшими, находящимися в отде-лении интенсивной терапии, но не имеющими дан-ных осложнений (97281,3 ± 204,2 рубля, р < 0,05).
Таким образом, вышеизложенное позволяетсделать вывод о том, что, наряду со снижениемобщей летальности (на 4,8%, как указывалось внашем втором сообщении), уменьшением частотыразвития тяжёлого сепсиса и ОРДС, внедрениенеизбежно более дорогостоящих мероприятийинтенсивной терапии у пострадавших с наиболеетяжёлым вариантом течения травматическойболезни в ранние сроки после их поступления встационар (в виде реализации «агрессивной» так-тики интенсивной терапии) сопровождается сни-жением финансовых затрат на оказание им реани-матологической помощи в целом.
В заключение необходимо отметить, что огра-ничение рамок данного сообщения не позволилорассмотреть ряд других, не менее важных, про-блем, решение которых также связано с дальней-
шим улучшением качества оказания анестезиоло-гической и реаниматологической помощи постра-давшим с тяжёлыми травмами: совершенствова-ние специализированной помощи данному кон-тингенту на догоспитальном этапе, разумная стан-дартизация данных видов помощи, необходи-мость и ограниченность методов доказательноймедицины, юридическая защита врача, противоре-чия между востребованностью и престижностьюпрофессии медицинских сестёр-анестезистов.
Выводы1. Перспективы совершенствования анесте-
зиологической и реаниматологической помощипострадавшим с тяжёлыми травмами в травмоцент-рах первого уровня в настоящее время связаны нетолько с дальнейшим изучением патогенеза травма-тической болезни и улучшением аппаратного осна-щения отделений интенсивной терапии, но и ссовершенствованием регламентирующих докумен-тов, разработкой и внедрением стандартов лечения,в том числе с учётом данных доказательной медици-ны, надлежащим обеспечением соблюдения прин-ципа эшелонированности данных видов помощи.
2. Сложность решения проблемы дальней-шего улучшения качества оказания специализи-рованной медицинской помощи пострадавшим сполитравмой обусловливает необходимость ком-плексного многопрофильного подхода, причём,наряду с анестезиологами-реаниматологами,хирургами и другими лечебными специалистами,всё большую практическую значимость приобре-тает сотрудничество со специалистами в областиорганизации и финансирования здравоохранения.
ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ:
Самохвалов Игорь Маркелович ВМедА им. С. М. Кирова, начальник кафедры военно-полевой хирургии, профессор,доктор медицинских наук.
194044, г. Санкт-Петербург, ул. Боткинская, д. 20.Тел./факс: 329-71-57.E-mail: [email protected].
Бояринцев Валерий Владимирович Государственный институт усовершенствования врачейМО РФ,профессор кафедры военно-полевой хирургии, доктормедицинских наук. 107392, г. Москва, ул. Малая Черкизовская, д. 7.E-mail: [email protected].
Гаврилин Сергей Викторович ВМедА им. С.М. Кирова,профессор кафедры военно-полевой хирургии, доктор медицинских наук.194044, г. Санкт-Петербург, ул. Боткинская, д. 20.
Вестник анестезиологии и реаниматологии 2010. Т. 7, № 3
14

1.Анестезиология и реаниматология. Руководство для вра-чей / Под ред. Ю. С. Полушина. – СПб.: «ЭЛБИ-СПб», 2004. – 719.
2.Калеко С. П. Организация службы крови и проведениеинфузионно-трансфузионной терапии / С. П. Калеко.Опыт медицинского обеспечения войск в Афганистане1979-1989 гг.: Т.2 : Организация и объём хирургиче-ской помощи раненым / Под ред. И. А. Ерюхина, В. И.Хрупкина. – М.: ГВКГ им. акад. Н. Н. Бурденко, 2002.– С. 358-371.
3.Клочков Н. Д., Тимофеев И. В. Медико-организационнаяхарактеристика ятрогении у умерших от заболеваний// Клиническая медицина и патофизиология. – 1998.– № 1–2. – С. 61-73.
4.Мешаков Д. П. Показания и противопоказания к продлён-ной и длительной искусственной вентиляции лёгких ураненых и пострадавших: Автореф. дис. … канд. мед.наук. – СПб., 2005. – 23 с.
5.Политравма: травматическая болезнь, дисфункция иммун-ной системы, современная стратегия лечения / Подред. Е. К. Гуманенко и В. К. Козлова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 608 с.
6.Полушин Ю. С. Гемотрансфузии – анестезиолого-реани-матологический взгляд на проблему // Эфферентнаятерапия. - 2004. – Т. 19, № 3. – С. 76-86.
7.Руднов В. А. Медицина, основанная на доказательствах винтенсивной терапии: анализ современного состянияпроблемы // Интенсивная терапия. – 2005. – № 1. –С.15-19.
8.Савельев В. С., Гельфанд Б. Р. Сепсис в начале XXI в.Классификация, клинико-диагностическая концепцияи лечение. - М.: «Литерра», 2006. – 176 с.
9.Самохвалов И. М., Бояринцев В. В., Гаврилин С. В.,
Мешаков Д. П. Травматическая болезнь: состояниепроблемы, варианты течения (сообщение первое) //Вестн. анестезиологии и реаниматологии. – 2009. –Т.6, № 3. – С. 2-9.
10.Самохвалов И. М., Бояринцев В. В., Гаврилин С. В.,Мешаков Д. П. Травматическая болезнь: особенностилечебной тактики при различных вариантах течения(сообщение второе) // Вестн. анестезиологии и реани-матологии. – 2009. – Т.6, № 4. – С. 9-15.
11.Шанин В. Ю., Шанин Ю. Н. Теория и практика анестезиии интенсивной терапии при тяжелых ранениях и трав-мах. – СПб.: Воен.-мед. акад., 1993. – 71 с.
12.Щёголев А. В., Белкин А. А., Кондратьев А. Н., Петри-ков С. С. Протокол оказания медицинской помощипострадавшим с тяжёлой черепно-мозговой травмой// Интенсивная терапия. – 2008. – № 2. – С. 55-67.
13.Aller M., Arias j., Nava M. Posttraumatic inflammation is acomplex response based on the pathological expression ofthe nervous, immune and endocrine functional system //Experimental Biology and Medicine. – 2004. – Vol. 229,№ 6. – P. 170-181.
14.Borgman M., Spinella Ph., Perkins G. The ratio of bloodproducts transfused affects mortality in patients receivingmassive transfusions at a Combat Support Hospital // J.Trauma. – 2007. –Vol.47, № 10. – P. 845-854.
15.Gando S., Kameue T., Matsuda N., Hayakawa M. Combinedactivation of coagulation and inflammation has an impor-tant role in multiple organ dysfunction and poor outcomeafter severe trauma // Thromb. Haemost. – 2002. – Vol.88, № 4. – P. 943-949.
16.Hack C., Zeerleder S. The endothelium in sepsis: source ofand target for inflammation // Crit. Care Med. – 2001. –Vol. 29, № 7. – P. 21-27.
Литература
Тел./факс: 329-71-57.E-mail: [email protected].
Немченко Наталья Степановна ВМедА им. С. М. Кирова,старший научный сотрудник НИЛ военной хирургии прикафедре военно-полевой хирургии, кандидат биологи-ческих наук.194044, г. Санкт-Петербург, ул. Боткинская, д. 20.Тел./факс: 329-71-57.E-mail: [email protected].
Герасимов Геннадий Львович ВМедА им. С.М. Кирова,заместитель начальника кафедры анестезиологии и реаниматологии, кандидат медицинских наук.194044, г. Санкт-Петербург, ул. Лебедева, д. 6.E-mail: [email protected].
Мешаков Дмитрий ПетровичВМедА им. С.М. Кирова,
врач анестезиолог-реаниматолог клиники военно-полевой хирургии, кандидат медицинских наук.194044, г. Санкт-Петербург, ул. Боткинская, д. 20.Тел./факс: 329-71-57.E-mail: [email protected].
Недомолкин Сергей ВикторовичВМедА им. С.М. Кирова,начальник отделения реанимации и интенсивной тера-пии клиники военно-полевой хирургии. 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Боткинская, д. 20.Тел./факс: 329-71-57.E-mail: [email protected].
Смирнов Сергей Алексеевич ВМедА им. С.М. Кирова,врач анестезиолог-реаниматолог клиники военно-поле-вой хирургии. 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Боткинская, д. 20.Тел./факс: 329-71-57.E-mail: [email protected].
Плановая и экстренная анестезиология
15

ИНФОРМАТИВНОСТЬ МОНИТОРИНГА ПРО- И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СЕПСИСА У ДЕТЕЙ С ОБШИРНЫМИОЖОГАМИА. У. Лекманов1, Л. И. Будкевич1, В. В. Сошкина1, С. Ф. Пилютик2
INFORMATIVE VALUE OF MONITORING PRO- AND ANTI-INFLAMMATORYCYTOKINES FOR THE DIAGNOSIS OF SEPSIS IN CHILDREN WITH EXTENSIVEBURNS A. U. Lekmanov1, L. I. Budkevich1, V. V. Soshkina1, S. F. Pilyutik2
Московский научно-исследовательский институт педиатрии и детской хирургии1
Детская городская клиническая больница № 92, г. Москва
Исследована возможность применения измерения концентраций интерлейкинов-1β , -6, -8, -10 ифактора некроза опухоли-α для эспресс-диагностики развития инфекционных осложнений наряду сопределением уровня прокальцитонина у детей с тяжёлой термической травмой. В исследование вошли50 обожжённых, у 18 детей определён цитокиновый профиль наряду с измерением прокальцитонина.Выявлена низкая информативность результатов измерения цитокинов для ранней диагностики сепсисау ожоговых больных.
Ключевые слова: ожоги, сепсис, диагностика, цитокины.
Whether the measurement of the concentrations of interleukins 1 , 6, 8, and 10 and tumor necrosis fac-tor- might be used for the rapid diagnosis of infectious complications along with the determination of thelevel of procalcitonin in children with severe thermal injury was studied. The study enrolled 50 burnpatients; the cytokine profile was determined along with the measurement of procalcitonin in 18 children.The measurement of cytokines was found to be of low informative value for the early diagnosis of sepsis inthe burned.
Key words: burns, sepsis, diagnosis, cytokines.
Своевременная диагностика инфекционныхосложнений у детей с тяжёлой термической трав-мой более 20% поверхности тела (п. т.) остаётсяодной из самых актуальных проблем в леченииожогов [1, 3, 15]. Существует большое количествометодик и протоколов диагностики и лечения,призванных помочь реаниматологам и хирургам врешении этой задачи.
Наибольшую сложность представляет собойдиагностирование начальных проявлений септи-ческого процесса, так как обширная ожоговаятравма сама по себе является причиной развитиятоксемии, проявляющейся с первых часов заболе-вания признаками синдрома системного воспали-тельного ответа (ССВО). В связи с этим ранняядиагностика сепсиса долгое время определяласьсовокупностью клинических критериев, микро-биологических исследований и лабораторныхпоказателей, которые не всегда позволяли быстро,объективно и однозначно оценить степень иактивность инфекционного поражения, прогнози-ровать его течение и исход [3, 6, 7, 8, 18].
Таким образом, использование традиционных
критериев совершенно недостаточно, на первыйплан выходит поиск биохимических маркёров,которые позволяют максимально рано диагности-ровать развитие заболевания.
Долгое время вёлся поиск достоверного маркёрасепсиса, который должен быть высокоспецифич-ным, чётко отражать степень тяжести заболевания ирезультативность лечения [9, 11-13, 19, 21, 22]. Насовременном этапе всем перечисленным требова-ниям отвечает тест на прокальцитонин (ПКТ).
В клинике термических пораженийМНИИПиДХ Росздрава для диагностики сепси-са, помимо стандартных клинико-лабораторныхкритериев, успешно используется измерениеуровня ПКТ. Несмотря на многочисленные лите-ратурные данные [5, 8, 15], указывающие на тер-мическую травму как на причину повышения кон-центрации ПКТ, многолетние исследования, про-ведённые в нашей клинике, показали, что у детей стяжёлыми ожогами, не сопровождающимися тер-моингаляцинным поражением, повышение уров-ня ПКТ связано исключительно с развитиеминфекционных осложнений.
Вестник анестезиологии и реаниматологии 2010. Т. 7, № 3
16

Гуморальная составляющая межклеточныхвзаимодействий в иммунной системе опосреду-ется продуктами взаимодействующих клеток –цитокинами, которые традиционно подразделяютна интерлейкины (факторы взаимодействиямежду лейкоцитами), интерфероны (цитокины спротивовирусной активностью), факторы некрозаопухолей (цитокины с цитотоксической актив-ностью), колониестимулирующие факторы (гемо-поэтические цитокины) [5, 12].
Выработка цитокинов (монокинов) клеткамимиелоидно-моноцитарного происхождения инду-цируется главным образом под влиянием бактери-альных продуктов. Вызвать её могут также многиеметаболиты, сами цитокины, пептидные факторы,полиэлектролиты, а также контакты с окружаю-щими клетками, процессы адгезии и фагоцитоза.Активация цитокиновых генов происходит вмоноцитах и макрофагах в пределах 1 ч, и в бли-жайшие часы цитокин уже можно обнаружить всреде [5, 12, 18].
Цитокины принято условно разделять на про-воспалительные и противовоспалительные, одна-ко в реальности каждый из них может активиро-вать или подавлять несколько процессов, включаясвой собственный синтез и синтез других цитоки-нов, а также образование и появление на поверх-ности клеток цитокиновых рецепторов [5, 12].
Интерлейкин-1 (ИЛ-1), интерлейкин-6 (ИЛ-6), интерлейкин-8 (ИЛ-8) и фактор некроза опу-холи-α (ФНО-α) – это провоспалительные цито-кины, и в эксперименте они вызывают лихорадку,воспаление, деструкцию тканей и в некоторыхслучаях – шок и гибель [12, 18–20].
ИЛ-10 – противовоспалительный цитокин.Он обладает многими противовоспалительнымисвойствами, включая способность подавлятьлихорадку.
Являясь продуктами клеток иммунной систе-мы, цитокины, естественно, играют важную роль веё функционировании. Воспалительная реакция,формирующаяся с участием цитокинов, служитосновой развития иммунного ответа. Этим объ-ясняется изменение уровня про- и противовоспа-лительных цитокинов, зарегистрированное нафоне ССВО, а также при наличии инфекционногопроцесса [14, 16, 17].
На основании этих фактов закономерно вста-ёт вопрос о возможности использования измере-ния цитокинового профиля для ранней диагно-стики сепсиса. В данной публикации представленопыт определения уровня различных про- и про-тивовоспалительных цитокинов в диагностикеинфекционных осложнений у детей с обширнымиожогами.
Цель работы – определить соответствие изме-нения концентрации про- и противовоспалитель-ных цитокинов и уровня ПКТ и выявить инфор-
мативность и целесообразность измерения кон-центрации про- и противовоспалительных цито-кинов для ранней диагностики сепсиса у детей стяжёлой термической травмой.
Материалы и методы
В исследование включено 50 детей в возрастеот 6 месяцев до 14 лет с общей площадью ожого-вых ран от 20 до 90% п. т. Раны IIIАБ–IV степенисоставили от 5 до 90% п. т. Пациенты находилисьна лечении в клинике термических пораженийМНИИПиДХ Росмедтехнологий в период с янва-ря 2004 г. по июнь 2007 г. Все дети поступили вспециализированное отделение в течение первых24 ч после получения термической травмы. Висследование вошли обожжённые без термоинга-ляционного поражения и не имевшие сопутствую-щих хронических заболеваний.
Помимо стандартных клинико-лабораторныхтестов – традиционного мониторинга, клиниче-ских и биохимических анализов крови и мочи,уровня С-реактивного белка, исследования кис-лотно-основного и электролитного баланса вдинамике, микробиологического исследованияпосевов отделяемого ожоговых ран с определени-ем чувствительности к антибиотикам, проводилиполуколичественное (диагностические наборыBRAHMS, Германия) и количественное(BRAНMS, Германия) определение уровня ПКТ всыворотке крови на первые, третьи, пятые, седь-мые сутки после травмы.
Измерение уровня про- и противовоспали-тельных цитокинов ИЛ-1β , ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10 иФНО-α проводили с помощью иммунофермент-ного набора (BIOSОURSE EUROPE S.A.).Исследования осуществляли в периоды отрица-тельной динамики в состоянии пациентов, в тече-ние 10 сут после травмы, когда отмечалось клини-ческое ухудшение состояния обожжённых парал-лельно с измерением концентрации ПКТ.
Статистический анализ данных выполняли спомощью программы Statistica 6.0 Statsoft.Результаты исследования представлены в видеMediana (Me), 25% и 75% перцентили.Сопоставление двух групп по количественнымпризнакам проводили с помощью U-критерияМанна–Уитни.
Результаты и обсуждение
В процессе работы 50 обследованных пациен-тов были разделены на следующие группы:
1) у 18 (36%) детей клиническая картина соот-ветствовала проявлению ССВО, уровень ПКТбыл менее 0,5 нг/мл [3, 7, 11];
2) состояние пациента расценивалось какугрожаемое по развитию инфекционных осложне-
Реаниматологическая помощь больным хирургического профиля
17

ний у 9 (23%) детей в случае определения кон-центрации ПКТ более 0,5 нг/мл, но менее 2 нг/мл;
3) сепсис диагностирован у 15 (30%) постра-давших – уровень ПКТ более 2 нг/мл;
4) превышение значений ПКТ более 10 нг/млвыявлено у 8 (16%) обожжённых, что свидетель-ствовало о течении тяжёлого сепсиса и служилонеблагоприятным прогностическим признаком вплане исхода заболевания.
Диагноз сепсиса был верифицирован на 5,8 ±4,2 сут после получения ожоговой травмы.
Измерение уровня человеческих ИЛ-1β, ИЛ-6,ИЛ-8, ИЛ-10, ФНО-α проведено у 18 (36%) паци-ентов, из них у 6 (33,3%) детей зарегистрированыинфекционные осложнения. Проанализировано 57образцов сыворотки крови. Площадь ожоговыхран у этих детей колебалась от 20 до 50% п. т. (всреднем – 40,1 ± 2% п. т.), средний возраст детейсоставил 2,3 ± 1,4 года.
Диагноз сепсиса был верифицирован на 5,8 ± 4,2сут после получения ожоговой травмы.
Для пациентов, чьё заболевание протекало безбактериальных осложнений (средняя концентра-ция ПКТ 0,41 ± 0,05 нг/мл), средние значенияцитокинов представлены в табл. 1. Из данных таб-лицы видно, что значения провоспалительныхцитокинов ИЛ-1β, ФНО-α статистически значи-мо не изменяются по сравнению с нормальнымизначениями (р > 0,05). Концентрация провоспа-лительного цитокина ИЛ-10 не превышает физио-логических границ. При этом отмечается увеличе-ние уровня провоспалительных цитокинов ИЛ-6,ИЛ-8 в 4–9 раз по сравнению с нормой. Из дина-мики изменения уровня цитокинов в этой группе(рис. 1, 2) видно, что за время наблюдения имеломесто небольшое колебание уровня ИЛ-1, ИЛ-10,ФНО-α и прослеживалась тенденция к снижениюконцентрации ИЛ-6, ИЛ-8 в период наблюдения.
При исследовании цитокинов (табл. 2) вгруппе пациентов с инфекционными осложне-ниями (ПКТ > 2 нг/мл, в среднем 3,8 ± 1,2нг/мл) можно заключить, что на фоне септиче-ского процесса при ожоговой травме, как и впредыдущей группе, нет значительного измене-ния средних значений концентрации ИЛ-1,ФНО-α по сравнению с нормой. Уровень ИЛ-10
несколько ниже указанных нормальных кон-центраций. Это может быть связано с особенно-стями фармакокинетики цитокинов – оченькороткое время их полувыведения, а также с кас-кадностью смены их преобладания [16-19], чтоне позволяет уловить закономерности динамикиих изменений.
При исследовании динамики уровня ИЛ-1,ИЛ-10, ФНО-α на фоне инфекционно-септиче-ских осложнений (рис. 3) концентрации ИЛ-1 иФНО-α практически не менялись с течением вре-мени, а уровень ИЛ-10 изменялся волнообразно,достигая своего пика на 6–7-е сутки после клини-ческого ухудшения в состоянии пациентов.
Таблица 1Средние значения цитокинов при концентрации
ПКТ ≤ 0,5 нг/мл (n = 12)
Примечание: * – по данным Oberhoffer M. и др. (1999 г.) [16, 17].
Рис. 1. Изменение уровня цитокинов при неосложнённойожоговой травме
Рис. 2. Изменение уровня ИЛ-6 и ИЛ-8 при сепсисе
Вестник анестезиологии и реаниматологии 2010. Т. 7, № 3
18

При сравнении средних значений исследо-ванных цитокинов (табл. 3) при гладком тече-нии термической травмы и на фоне инфекцион-ных осложнений выявлено отсутствие статисти-чески достоверного различия во всех получен-ных нами результатах (р > 0,05). Это можетбыть объяснено сравнительно небольшой груп-пой обследованных пациентов (18 детей).Однако прослеживается стойкая тенденция кувеличению значений ИЛ-6 и ИЛ-8 на фонеинфекционно-септических осложнений. В то жевремя при различных концентрациях ПКТ уро-вень ИЛ-1, ИЛ-10, ФНО-α существенно неизменялся, что связано с коротким временемполувыведения этих соединений и быстрой сме-ной преобладания концентрации одного цито-кина другим.
Таким образом, полученные результатыизменений уровня различных цитокинов позво-ляют сделать вывод об информативности дляранней диагностики инфекционных осложненийпри тяжёлой ожоговой травме лишь концентра-ции ИЛ-6 и ИЛ-8. Значительное изменение кон-центраций ИЛ-6 и ИЛ-8 свидетельствует о воз-
можности определения этих цитокинов если недля экспресс-диагностики возникновенияинфекционно-септических осложнений, то вцелях подтверждения течения септического про-цесса. Вызывает сомнение возможность исполь-зования в этих целях таких маркёров как ИЛ-1,ИЛ-10 и ФНО-α в связи с особенностями фар-макокинетики этих соединений, которые былиописаны выше.
Выводы
1. Уровень цитокинов ИЛ-6, ИЛ-8 у детей собширными ожогами свидетельствует о призна-ках синдрома системного воспалительного ответаили сепсиса. Однако особенности метаболизмаИЛ-6 и ИЛ-8 не позволяют использовать этипоказатели для экспресс-диагностики интенсив-ности воспалительной реакции в организме обо-жжённого.
2. Измерение концентрации ИЛ-1, ИЛ-10,ФНО-α неинформативно для регистрацииинфекционных осложнений у детей с обширнымиожогами.
ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ:
Лекманов Андрей Устинович Московский НИИ педиатрии и детской хирургии, руководитель отделения анестезиологии и терапиикритических состояний. 125412, г. Москва, ул. Талдомская, 2. Тел.: 8-499-256-11-87. E-mail: aulek@rambler. ru.
Будкевич Людмила Иосоновна Московский НИИ педиатрии и детской хирургии, руководитель отделения термической травмы.125412, г. Москва, ул. Талдомская, 2. Тел.: 8-499-256-42-02. E-mail: [email protected].
Таблица 2Средние значения цитокинов при концентрации
ПКТ ≥ 2 нг/мл (n = 6)
Примечание: * – по данным Oberhoffer M. и др. (1999 г.) [16, 17].
Рис. 3. Изменение концентрации ИЛ-1, ИЛ-10, ФНО присепсисе
Таблица 3Сравнение средних значений концентрации
цитокинов (пг/мл) у детей с ожогами в зависимости от наличия или отсутствия у них
инфекционных осложнений
Примечание: * – анализ проводили с помощью U-критерияМанна – Уитни.
Реаниматологическая помощь больным хирургического профиля
19

Литература
1.Алексеев А. А., Крутиков М. Г., Бобровников А. Э. Сепсису обожжённых: вопросы диагностики, профилактики илечения. Инфекции и антимикробная терапия //Материалы к конференции «Сепсис в современноймедицине». – T. 3, № 3. – М., 2001. – С. 38-40.
2.Белобородова Н. В., Попов Д. А. Поиск «идеального» биомар-кёра бактериальных инфекций // Клиническая анесте-зиология и реаниматология. – 2006. – Т. 3, № 3. – С. 30-39.
3.Егоров А. Л., Баиндурашвили А. Г., Григорьев А. И. и др.Современные технологии в интенсивной терапиитяжёлой ожоговой травмы у детей // МатериалыМеждународного медицинского форума «Человек итравма». – Н. Новгород, 2001. – С. 40-80.
4.Сепсис в начале XXI века. Классификация, клинико-диагно-стическая концепция и лечение. Патолого-анатомиче-ская диагностика. Практическое руководство РАСХИ. – М.: Изд-во НЦ ССХ РАМН, 2004. – 126 с.
5.Becker K. L., O'Neil W. J., Snieder R. H. et al.Hypercalcitonemia in inhalation burn injury: a response ofpulmonary neuroendocrine cell? // Anat. Rec. – 1993. –Vol 236, N.1. – P. 136-138, 172-173.
6.Brill R. J., Goldstein B. Pediatric sepsis definition; past, pres-ent, and future // Pediatr. Crit. Care Med. – 2005. – Vol. 6, № 3. – P. 6-8.
7.Brun-Buisson C. The epidemiology of the systemic inflamma-tory response // Intens. Care Med. – 2002. – Vol. 26.,Suppl. 1. – P. 64-74.
8.Casado-Flores J., Blanco-Quiros A., Asensio J. et al. Serumprocalciotonin in children with suspected sepsis: A com-parision with C-reactive protein and neutrophil count //Pediatr. Crit. Care Med. – 2003. – Vol. 4. – P. 190-195.
9.Delevaux I., Andre M., Colombier M. et al. Can procalcitoninmeasurement help in differentiating between bacterialinfection and other kind of inflammatory processes? //Ann. Rheum. Dis. – 2003. – Vol. 62. – P. 337-340.
10. Leclerc F., Cremer R., Noiset O. Procalciotonin as a diagnosticand prognostic biomarker of sepsis in critically ill children// Pediatr. Crit. Care Med. – 2003. – Vol. 4. – P. 264-266.
11.Martinez J. M., Becker K. L., Miller B. et al. Improved phys-iologic and metabolic parameters and increased survivalwith late procalcitonin immunoneutralization in septic
pigs. In: 41st Interscience Conference on AntimicrobialAgents and Chemotherapy (ICAAC). Сhicago, IL, 2001.
12.Meisner M., Tschaikowsky K., Hutzler A. et al. Postoperativeplasma concentrations of procalcitonin after differenttypes of surgery // Intensive Care Med. – 1998. – Vol. 24.– P. 680-684.
13.Mirjam Christ-Crain, Beat Muller Procalcitonin in bacterialinfections – hype, hope, more or less? // Swiss MedicalWeekly. – 2005. – P. 451-460.
14.Luhm J., Kirchner H. , Rink L. One way synergistic effect oflow superantigen concentrations on lipopolysaccharideinduced cytokine production // J. Interferon-CytokineRes. – 1997. – Vol. 17, № 4. – Р. 229-238.
15.Neely A. A., Fowler L. A. et al. Procalcitonin in pediatric burnpatients: An early indicator of sepsis // Journal of BurnCare and Rehabilitation. – 2004. – Vol. 25, № 1. – P. 76-80.
16.Oberhoffer M., Karzai W., Meier-Hellmann A. et al.Sensitivity and specificity of various markers of inflamma-tion for the prediction of tumor necrosis factor-alpha andinterleukin-6 in patients with sepsis // Crit. Care Med. –1999. – Vol. 27. – Р. 1814.
17.Oberhoffer M., Russwurm S., Bredle D. et al. Discriminativepower of inflamatory markers for prediction of tumornecrosis factor-alfa and interleukin-6 in ICU patientswith systemic inflammatory response syndrome (SIRS) orsepsis at arbitary time points // Intens. Care Med. – 2000.– Vol. 26. – Р. 170-74.
18.Shruder J., Staubach K. H., Zabel P. et al. Procalcitonin as amarker of severity in septic shock // Langenbecks Arch.Surg. – 1999. – Vol. 384. – P. 33-38.
19.Smith N. Sepsis: its causes and effects // J. Wound Care. –2003. – Vol. 12, № 7. – P. 265-70.
20.Ward C. G., Splanding P. B., Marcial E. et al. The bacterici-dal power of blood and plasma of patients with burns //J. Burn Care & Rehabil. – 1991. – Vol. 12. – P. 120.
21.Weglohner W., Struck J., Fischer-Schulz C. et al. Isolationand characterization of serum procalcitonin from patientswith sepsis // Peptides. – 2001. – Vol. 22. – P. 2099-2103.
22.Whang K. T., Steinwald P. M., White J. C. et al. Serum calci-tonin precursors in sepsis and systemic inflammation // J. Clin Endocrinol Metab. – 1998. – Vol. 83. – P. 3296-3301.
Сошкина Вера Владимировна Московский НИИ педиатрии и детской хирургии,научный сотрудник отделения термической травмы. 125412, г. Москва, ул. Талдомская, 2.
E-mail: [email protected]
Пилютик Сергей Федорович ДГКБ № 9,заведующий ОРИТ.123317, г. Москва, Шмитовский пр., 29.Тел.: 8-499-256-11-87.E-mail: [email protected].
Вестник анестезиологии и реаниматологии 2010. Т. 7, № 3
20

Внутрибрюшное давление (ВБД) – это дав-ление, которое создаётся внутри брюшной поло-сти благодаря совместному воздействию внут-рибрюшных структур и абдоминальных мышц[8]. Транзиторное повышение ВБД, такое какпри кратковременной лапароскопии, вызываетлишь кратковременные и умеренные негатив-ные физиологические эффекты [20, 21].Персистирующее же повышение ВБД – внутри-брюшная гипертензия (ВБГ) – отрицательносказывается на функции практически всех орга-нов и систем организма [13, 14, 16]. Несмотря наэто, ВБД, как параметр, влияющий на общуюлетальность в отделении интенсивной терапии(ОИТ), изучен недостаточно [14].
Естественно, конечной целью многих диаг-ностических процедур и методик леченияявляется продление жизни пациентов. Это осо-бенно актуально для пациентов в ОИТ, имею-щих грубые гомеостатические нарушения, поэ-тому проведение любых диагностических итерапевтических мероприятий, не имеющихзначимого воздействия на общую выживае-мость, может быть признано неоправданным.Более того, такие мероприятия могут значи-тельно увеличивать расходы на лечение. С этихпозиций мы знаем очень мало о ВБД: измерениеВБД является простой и недорогой процедурой,однако влияет ли ВБД на выживаемость паци-ентов в ОИТ?
ВНУТРИБРЮШНОЕ ДАВЛЕНИЕ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ, ВЛИЯЮЩИЙ НА ОБЩУЮ ЛЕТАЛЬНОСТЬ У ПАЦИЕНТОВХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В ОТДЕЛЕНИИ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИР. В. Акопян
INTRAABDOMINANT PRESSURE AS AN INDICATOR AFFECTING OVERALL MORTALITY IN SURGICAL PATIENTS IN INTENSIVECARE UNITSR. V. Akopyan
Ереванский государственный медицинский университет,Национальный институт здравоохранения Республики Армения,Сердечно-сосудистый центр «Зайтун»
Проведённое исследование носило проспективно-наблюдательный характер, в него включено219 пациентов хирургического профиля, которым проводили лечение в отделении интенсивнойтерапии. Показано, что выживаемость больных с внутрибрюшной гипертензией достоверно ниже,чем пациентов без внутрибрюшной гипертензии. Выявлены независимые предикторы, влияющиена разницу в выживаемости: уровень абдоминального перфузионного давления, значения тяжестисостояния по шкале APACHE II, наличие положительного баланса жидкости и отсутствие дефека-ций в течение пребывания пациентов в отделении интенсивной терапии.
Ключевые слова: внутрибрюшное давление, внутрибрюшная гипертензия, абдоминальное перфузионное дав-ление, выживаемость, отделение интенсивной терапии.
This was a prospective observational study that included 219 surgical patients treated in the intensivecare unit. Survival rates in patients with intraabdominal hypertension were shown to be lower than thosein patients without this condition. Independent predictors affecting a difference in survival rates wereidentified. These included abdominal perfusion pressure, APACHE II severity scores, a positive fluid bal-ance, and no defecation during intensive care unit stay.
Key words: intraabdominal pressure, intraabdominal hypertension, abdominal perfusion pressure, survival, intensivecare unit
Реаниматологическая помощь больным хирургического профиля
21

Таблица 1Частоты зарегистрированных летальных исходов в трёх группах ВБД
Наш поиск сведений об испытаниях, прове-дённых с целью выяснения связи между ВБД ивыживаемостью пациентов в ОИТ, выявил лишьодно такое исследование [17, 18].
Согласно определениям Всемирной ассоциа-ции абдоминального компартмент-синдрома(WSACS), ВБГ характеризуется стабильновысоким ВБД или его повторными патологиче-скими повышениями свыше 12 мм рт. ст. [15].Согласно тем же рекомендациям, у пациентовОИТ ВБД в норме не должно превышать 5 ммрт. ст. При этом ничего не говорится о значенияхВБД в интервале 5–12 мм рт. ст., а ведь этизначения ВБД как раз и встречаются наиболеечасто у пациентов ОИТ.
Цели исследования: 1) изучить влияние раз-личных уровней ВБД на кумулятивную выжи-ваемость пациентов в ОИТ, 2) выявить возмож-ные предикторы, влияющие на выживаемость вОИТ.
Материалы и методы
Исследование носило проспективно-наблю-дательный характер. Обследованы 219 боль-ных: 172 (79%) пациента, прооперированных поповоду различных хирургических заболеваний,47 (21%) – травматических повреждений орга-нов брюшной полости. Больные разделены натри группы в зависимости от усреднённыхзначений ВБД в течение всего периода пребыва-ния в ОИТ: группа 1 – ВБД ≤ 5 мм рт. ст.(физиологические значения ВБД), группа 2 –ВБД = 6–11 мм рт. ст. (пограничное значениеВБД) и группа 3 – ВБД > 12 мм рт. ст. (стойкаяВБГ). В группах выживших и умерших пациен-
тов измеряли основные физиологические, лабо-раторные и демографические параметры.Тяжесть состояния пациентов оценивали пошкалам SOFA и APACHE II. Для усредненияисследуемых непрерывных параметров, полу-ченных по каждому пациенту в течение всегопериода госпитализации в ОИТ, применялиплощади под соответствующими кривыми,полученными при помощи трапецеидальногоинтегрирования всех доступных измерений [3].
Основной конечной точкой в исследованиибыла смерть пациента в ОИТ от всевозможныхпричин. Для определения нескорректирован-ных взаимосвязей между различными уровня-ми ВБД и выживаемостью, а также для оценкискорости достижения пациентов конечнойточки при разных уровнях ВБД применялиметод Каплана – Мейера. Функции выживанияпри различных уровнях ВБД сравнивали припомощи лог-рангового критерия χ2 Мантела –Кокса.
Для нахождения независимых влиянийряда потенциальных предикторов на выживае-мость пациентов в ОИТ применяли регрес-сионную модель Кокса пропорциональногориска [11, 12].
Статистический анализ проводили при помо-щи SPSS 16.0 for Windows (SPSS Inc., Chicago, IL,USA 2007).
Результаты и обсуждение
Всего в течение пребывания пациентов в ОИТзарегистрировано 77 смертей от всевозможныхпричин, что соответствовало 35,3% от общейсмертности обследованных больных (табл. 1).
Описательная статистика и результатыоднофакторного анализа исследованных демо-графических, клинико-лабораторных и основ-ных физиологических параметров в группах«выжившие» и «умершие» представлена в табл. 2.
Как видно из табл. 2, пациенты в группах«выжившие» и «умершие» не отличались по
основным демографическим показателям, носущественно различались по многим клиниче-ским и лабораторным параметрам. Заслуживаютвнимания также резкие различия в структурахраспределения значений ВБД в обеих группахпациентов. В частности, у выживших пациентовни разу не встречалось значение ВБД более 25 мм рт. ст. (табл. 2. и рис. 1).
Вестник анестезиологии и реаниматологии 2010. Т. 7, № 3
22

Таблица 2Исследованные параметры в группах «выжившие» и «умершие»
Примечание:* показатели в обеих группах достоверно различались,** определена как креатинин плазмы > 100 мкмоль/л (с или без суточного диуреза < 500 мл) или расчетная СКФ < 60мл/мин.Непрерывные переменные представлены как среднее ± стандартное отклонение, категориальные переменные представлены вцифрах и процентах. Непрерывные переменные в двух группах сравнивали при помощи непарного t-теста Стьюдента, еслипеременная имела нормальное распределение, или U-теста Манна–Уитни, если исследуемая переменная имела скошенноераспределение. Вид распределения был установлен при помощи графических методов исследования, а также тестаКолмогорова - Смирнова. Категориальные переменные (например, наличие или отсутствие критериев SIRS) в двух группахсравнивали при помощи 2 теста Пирсона (с поправкой Yates, при ожидаемой частоте параметра < 5). Все величины p былидвусторонними.
Реаниматологическая помощь больным хирургического профиля
23

Для определения возможной связи ВБД свыживаемостью пациентов в ОИТ исследовалифункции кумулятивного выживания в группахпациентов с ВБД ≤ 5 мм рт. ст., ВБД = 6–11 мм рт.
ст. и ВБД > 12 мм рт. ст. Кривые Каплана - Мейерадля трёх групп ВБД, показывающие кумулятивнуювыживаемость в каждый момент времени послепоступления в ОИТ, изображены на рис. 2.
Рис. 1. Частотное распределение уровней ВБД в группах «выжившие» и «умершие», согласно классификации WSACS
Рис. 2. Выживаемость пациентов в группах ВБД ≤ 5 мм рт. ст., ВБД = 6–11 мм рт. ст. и ВБД >12 мм рт. ст. В целом кри-вые выживания достоверно различались
Вестник анестезиологии и реаниматологии 2010. Т. 7, № 3
24

Таблица средних значений и медиан для вре-мён выживания даёт численную оценку для
сравнения выживания пациентов в трёх группахВБД (табл. 3).
Таблица 3Средние значения и медианы для времён выживания в трёх группах ВБД
Примечание: a – оценка лимитирована по максимальному времени выживания, если она цензурирована,SEM – стандартная ошибка среднего или медианы, 95% ДИ – 95% доверительные интервалы.
Видно, что значения 95% ДИ для медианы вре-мени выживания в группе ВБД = 6–11 мм рт. ст.целиком интерполируются в соответствующиеинтервалы группы ВБД ≤ 5 мм рт. ст. Это наводитна мысль о тождественности популяционныхзначений медиан времён выживания в обеих груп-пах. Аналогичный результат получен при помощилог-ранг теста Мантела – Кокса, который оказалсявысокозначимым для наших трёх групп пациен-тов: χ2 = 12,751, df = 1, p < 0,0001. Это указывает нато, что хотя бы одна пара из исследованных трёхгрупп значимо различались по времени выжива-ния. Для выявления значимо различающихся пармы приступили к множественным post-hoc сравне-
ниям полученных функций выживания, проводякоррекцию уровней значимости по Бонфферони:скорректированный p = 0,05/3 = 0,017 (12).
В табл. 4 показано, что функции выживаниядостоверно различались только между группамипациентов с ВБД ≤ 5 мм рт. ст. и ВБД > 12 мм рт. ст.,а также между группами пациентов с ВБД = 6–11 ммрт. ст. и ВБД > 12 мм рт. ст. Группы с ВБД ≤ 5 мм рт.ст. и ВБД = 6–11 мм рт. ст. по выживаемости досто-верно не различались, что позволило объединить ихв одну группу со значением ВБД < 12 мм рт. ст.Поэтому далее рассматривались две группы пациен-тов: пациенты без ВБГ (ВБД < 12 мм рт. ст.) и паци-енты со стойкой ВБГ (ВБД > 12 мм рт. ст.).
Таблица 4Попарные сравнения функций выживания в трёх группах ВБД
Примечание: * функции достоверно различались с уровнем значимости p < 0,017.
Общая летальность в группе пациентов со стой-кой ВБГ составила 52,9 %, а в группе пациентов безВБГ – 27,3 % (рис. 3.).
Средние значения и медианы для времёнвыживания в двух группах пациентов представле-
ны в табл. 5. Легко заметить отсутствие наложе-ний в 95% ДИ для медиан времён выживания вобеих группах ВБД, что говорит о значимых раз-личиях в вероятностях выживания.
Действительно, компьютерный анализ полог-ранговому критерию χ2 Мантела – Коксавыявил достоверную разницу по выживаемостив двух группах ВБД: χ2 = 15,179, df = 1, p =0,0001. Кривые Каплана – Мейера, показываю-щие кумулятивную выживаемость в каждыймомент времени после базовой, изображены длягруп с ВБД < 12 мм рт. ст. и ВБД > 12 мм рт. ст.(рис. 4).
Таким образом, имело место существенное раз-личие между медианами времён выживания в груп-пах пациентов с ВБД < 12 мм рт. ст. и ВБД > 12 ммрт. ст.: [17,000 (4,020) vs. 7.000 (0,623)]. Анализзначений 95% ДИ для медиан времён выживания вдвух группах показывает, что их популяционныезначения в 95% случаев будут находиться в интер-валах 9,121–24,879 дней в группе ВБД < 12 мм рт.ст. и 5,779–8,221 дней в группе ВБД > 12 мм рт. ст.
Рис. 3. Общая смертность в группах пациентов со стой-кой ВБГ и без неё
Реаниматологическая помощь больным хирургического профиля
25

Таблица 5Средние значения и медианы времён выживания для пациентов без ВБГ и пациентов со стойкой ВБГ
Примечание: a – оценка лимитирована по максимальному времени выживания, если она цензурирована,SEM – стандартная ошибка среднего или медианы, 95% ДИ – 95% доверительные интервалы.
Рис. 4. Выживаемость пациентов в группах ВБД < 12 мм рт. ст. и ВБД > 12 мм рт. ст.
Еще одной довольно важной особенностьюрассматриваемых кривых выживания является то,что они не пересекались в течение всего периодагоспитализации пациентов в ОИТ. Это говорит отом, что вероятность выживания пациентов вгруппах с ВБД < 12 мм рт. ст. и ВБД > 12 мм рт. ст.значимо отличается не только в целом, но и длялюбого момента времени в течение госпитализа-ции пациента в ОИТ.
Итак, было продемонстрировано, что действи-тельно в группе пациентов с ВБГ кумулятивнаявероятность выживания достоверно ниже, чем вгруппе пациентов без ВБГ. Однако, как показано втабл. 2, группы «выжившие» и «умершие» различа-лись не только по ВБД, но и по целому ряду кли-нико-лабораторных параметров, поэтому для про-
верки независимых влияний ряда потенциальныхпредикторов на выявленную разницу в выживае-мости для двух уровней ВБД применяли регрес-сионную модель Кокса пропорционального риска[11, 12]. Для внесения переменных в указаннуюмодель рассматривали все вышеперечисленныедемографические и клинико-лабораторные дан-ные. Сначала оценивали соотношение между каж-дой переменной, одной за другой, и зависимойпеременной, т. е. принималась парная регрессия.Затем в ходе дальнейшего анализа рассматривалитолько те переменные, которые имели отношение сзависимой переменной (исходом пациентов) илибыли значимыми в унивариатном анализе (табл. 2.)[11]. Для выбора конечной оптимальной моделииспользовали процедуру автоматического пошаго-
Вестник анестезиологии и реаниматологии 2010. Т. 7, № 3
26

вого отбора параметров (Forward Stepwise). Этотспособ является комбинацией методов включенияи последовательного удаления переменных. Выборначинается с метода включения, а в конце каждогошага проводится проверка методом последователь-ного удаления для гарантии того, что все выбран-ные предикторы являются статистически значимы-ми. Переменные включались в модель, если p < 0,05и удалялись, если p > 0,1 [11].
Переменные исследовали на предмет возмож-ной мультиколениарности с использованием кор-
реляционных матриц регрессионных коэффици-ентов. Предположения пропорциональностиотносительных рисков были удовлетворены гра-фическими методами, а также исследованиемвзаимосвязи между ковариатой и продолжитель-ностью пребывания в ОИТ [11, 12].
В целом модель оказалась статистическизначимой: -2 Log Likelihood = 253,789, Overall(score) χ2 = 94,250, p < 0,0001. Итоговые результа-ты оптимизированной регрессионной моделиКокса представлены в табл. 6.
Таблица 6Результаты регрессионной модели Кокса пропорционального риска
Примечание: - B – коэффициенты в регрессии Кокса, - SE – стандартная ошибка для коэффициента регрессии Кокса,- Wald – χ2 Вальда проверяет нулевую гипотезу о том, что относительный риск смертельного исхода, связанный с даннойпеременной, равен единице,df – степени свободы,- Sig. – достигнутый уровень значимости для критерия χ2 Вальда,- Exp(B) – отношение рисков (ОР), представляет собой повышенный или пониженный риск достижения конечной точки(смерти) в любой момент времени, связанный с единичным увеличением соответствующего ему параметра, с учётом эффектавсех остальных предикторов. Exp(B) > 1 означает повышенный риск, Exp(B) < 1 – пониженный риск достижения конечнойточки в ходе исследования,- 95% CI for Exp(B) – 95% ДИ для Exp(B), для оценки популяционной величины отношение рисков.
Данные в табл. 6 показывают, что с низкой выжи-ваемостью были связаны только 4 независимых пре-диктора: низкое значение абдоминального перфу-зионного давления (АПД), высокий уровень APACHEII, положительный баланс жидкости и отсутствиедефекации в течение пребывания пациентов в ОИТ.
Значение ОР для АПД означает, что рисклетального исхода снижается в 0,97 раза (95% ДИ =0,95–0,99) с увеличением АПД на каждый 1 мм рт.ст. Это означает, что, например, увеличение АПД с40 мм рт. ст. до 50 мм рт. ст. способно снижать рисклетального исхода у пациента в 10 × 0,97 = 9,7 раза.Если выразить в процентах, то получится, что уве-личение АПД на 1 мм рт. ст. соответствует сниже-нию риска летального исхода на 3%.
Хотя бы однократное функционированиекишечника в течение пребывания пациентов вОИТ снижает риск летального исхода в 0,2 раза(95% ДИ = 0,08–0,50) или в процентном отноше-нии – на 80%.
Пациенты с положительным балансом жидко-сти имели риск летального исхода в 8,24 (95% ДИ =2,57–26,39) раза выше, чем пациенты без положи-тельного баланса, т. е. риск повышался на 724%.
Балл по шкале APACHE II был последним неза-висимым предиктором в обследованном контин-генте пациентов с ОР = 1,07 (95% ДИ = 1,01 – 1,13).Следовательно, риск летального исхода повышает-
ся на 7% на каждый дополнительный балл пошкале APACHE II.
Итак, становится ясно, что само присутствиеВБГ не имеет независимого влияния на выживае-мость в ОИТ. Однако независимым предикторомявляется её производный параметр – АПД. Такимобразом, мы приходим к важному заключению, чтовыявленная разница в выживаемости в двух груп-пах ВБД была связана с выявленными независи-мыми предикторами, в том числе и с АПД.
Интересным может оказаться обсуждение воз-можных механизмов действия АПД на выявлен-ную разницу в выживаемости в группах пациентовс и без ВБГ. В частности, низкое АПД может приве-сти к спланхнической гипоперфузии с последую-щим снижением DO2 к внутренним органам, в томчисле и к кишечнику. Это может привести к ише-мическому повреждению микроворсинок и к бакте-риальной транслокации из кишечника [13, 14].Последняя, в свою очередь, может стать причинойабдоминального сепсиса и клинически проявлять-ся как системная воспалительная реакция (SIRS).Однако SIRS не является независимым предикто-ром плохого прогноза, вероятно по причине того,что он не является ни чувствительным, ни специ-фичным маркёром сепсиса [19, 23].
Бактериальной транслокации могут способ-ствовать также паралитический илеус и положи-
Реаниматологическая помощь больным хирургического профиля
27

тельный баланс жидкости. Повышение давленияв просвете кишечника вследствие газообразова-ния и накопления жидкости может усугублятьишемию кишечника, способствовать некрозу егоэпителия и, следовательно, транслокации бакте-рий. Механизмы неблагоприятного влиянияположительного жидкостного баланса на выжи-ваемость пациентов могут быть множественны-ми и малоизученными – это отёк кишечника,ухудшение его барьерной функции, снижениетканевого напряжения кислорода вследствиеухудшения диффузии в лёгких и других тканях ипр. [1, 2, 10]. Несмотря на экспериментальныеданные, подтверждающие правильность указан-ных соображений, клинических исследованийдля определения роли бактериальной транслока-ции у пациентов в ОИТ не проводили [22]. Делов том, что в клинической практике очень труднодиагностировать ишемию слизистой кишечника.Основным затруднением является трудностьмониторинга оксигенации слизистой кишечника.Определённую пользу может принести косвен-ный метод оценки оксигенации слизистойкишечника – технология желудочно-кишечнойтонометрии [9]. В её основе лежит повышениесодержания CO2 в слизистой в ответ на сниже-ние DO2. Повышение CO2 происходит вслед-ствие того, что протоны, полученные в процессеанаэробного гликолиза, вступают во взаимодей-ствие с бикарбонатной буферной системой тка-ней и плазмы, образуя CO2. Путём установленияравновесия между тонометрическим баллоном,заполненным жидкостью и слизистой кишечни-ка, предоставляется возможность оценить напря-жение CO2 в слизистой оболочке кишечника [9].Если предположить, что содержание бикарбона-та в артериальной крови и в слизистой равны, тона основании уравнения Хендерсона -Хассельбаха можно будет рассчитать и уровеньpH внутри слизистой [9]. Заметим, что предполо-жение о равенстве содержания бикарбоната вслизистой оболочке и плазме часто не выпол-няется и катетер для тонометрии трудно устано-
вить в разных отделах кишечника, поэтомукишечная тонометрия скорее оценивает локаль-ный уровень перфузии и не отражает общеесостояние спланхнической перфузии [9]. С дру-гой стороны, хорошо известно, что тотальныйспланхнический кровоток прямо пропорциона-лен АПД [4, 5]. Учитывая указанные трудности ивозможные неточности мониторинга оксигена-ции слизистой, АПД может быть важной детер-минантой общей спланхнической перфузии иDO2, определение которой не представляет осо-бой трудности в ОИТ.
Каким бы ни был механизм действия низкогоАПД, оно является независимым предикторомплохого прогноза, причём с увеличением АПД накаждый 1 мм рт. ст. риск летального исхода сни-жается в 0,97 раза (95% ДИ = 0,95–0,99).
Заключение
Выживаемость хирургических пациентовОИТ с ВБГ достоверно ниже, чем у пациентов безВБГ. Выявленная разница в выживаемости в груп-пах обусловлена независимыми влияниями АПД,тяжестью состояния (значениями по шкалеAPACHE II), наличием положительного балансажидкости и отсутствием дефекаций в течение пре-бывания пациентов в ОИТ.
ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ:
Акопян Реми Ваганович Кандидат медицинских наук, старший преподавателькафедры анестезиологии и интенсивной терапииЕреванского государственного медицинского
университета.375025, Армения, Ереван, ул. Корюна, 2.
Докторант при кафедре анестезиологии и интенсивнойтерапии Национального института здравоохраненияРеспублики Армения.Врач-анестезиолог Сердечно-сосудистого центра«Зайтун».
Е-mail: [email protected].
1.Balogh Z., McKinley B. A., Holcomb J. B. et al. Both pri-mary and secondary abdominal compartment syndromecan be predicted early and are harbingers of multipleorgan failure // J. Trauma. – 2003. – Vol. 54. – P. 848-861.
2.Balogh Z., McKinley B. A., Cocanour C. S. et al.Supranourmal trauma resuscitation causes more cases ofabdominal compartment syndrome // Arch. Surg. –2003. – Vol. 138. – P. 637-642.
3.Burden R. L., Faires D. J. Numerical Analysis. – New York,Brooks Cole. – 2000. – P. 37-36.
4.Cheatham M. L., Malbrain M. L. Abdominal perfusion pres-sure. In: Abdominal compartment syndrome.
Georgetown: Landes Bioscience. – 2006. – P. 69-81.5.Cheatham M. L., White M. W., Sagraves S. G. et al.
Abdominal perfusion pressure: a superior parameter inthe assessment of intra-abdominal hypertension // J.Trauma. – 2000. – Vol. 49. – P. 621-267.
6.Diebel L. N., Dulchavsky S. A., Brown W. J. Splanchnicischemia and bacterial translocation in the abdominalcompartment syndrome // J. Trauma. – 1997. – Vol. 43.– P. 852-855.
7.Diebel L. N., Dulchavsky S. A., Wilson R. F. Effect ofincreased intra-abdominal pressure on mesenteric arte-rial and intestinal mucosal blood flow // J. Trauma. –1992. – Vol. 33. – P. 45-49.
Литература
Вестник анестезиологии и реаниматологии 2010. Т. 7, № 3
28

8.Duggan J. E., Drummond G. B. Abdominal muscle activityand intra-abdominal pressure after upper abdominal sur-gery // Anesth. Analg. – 1989. – Vol. 69. – P. 598-603.
9.Kolkman J. J., Otte J. A., Groeneveld A. B. J.Gastrointestinal luminal PaCO2 tonometry: an updateon physiology, methodology, and clinical applications //Br. J. Anesth. – 2000. – Vol. 84. – P. 74-86.
10.De Laet I., Malbrain M. L. ICU management of the patientwith intraabdominal hypertension: what to do, when and towhom? // Acta Clin Belg. – 2007. – Vol. 62. – P. 190-199.
11.12Landau S., Everitt B.S. Survival analysis. In: Landau S,Everitt BS. Statistical analyses using SPSS // NewYork, Chapman and Hall/CRC. – 2004. – P. 250-339.
12.Lang T. A., Sesic M. Assesing time-to-an-event as an end-point. In: Lang TA, Sesic M. How to report statistics inMedicine. Philadelphia, American college of physicians.– 1997. – P. 137-146.
13.Malbrain M. L. Abdominal pressure in the critically ill:measurement and clinical relevance // Intensive CareMed. – 1999. – Vol. 25. – P. 1453-1458.
14.Malbrain M. L. Is it wise not to think about intra-abdomi-nal hypertension in the ICU? // Curr Opin Crit. Care.– 2004. – Vol. 10. – P. 132-145.
15.Malbrain M. L., De laet I., Cheatham M. ConssensusConference definations and recommendations on intra-abdominal hypertension and the abdominal compart-ment syndrome // Acta Clinica Belgica. – 2007. – Vol.62. – P. 44-59.
16.Malbrain M. L. Intra-abdominal pressure in Critical CareUnit: Clinical Tool or Toy? In: Vincent JL (ed.).Yearbook of Intensive Care and Emereency Medicine.Berlin: Springer-Verlag. – 2001. – P. 547-585.
17.Malbrain M. L., De Laet I., Cheatham M. et al. Incidenceand prognosis of intra-abdominal hypertension in amixed population of critically ill patients: a multiple-center epidemiological study // Crit. Care Med. – 2005.– Vol. 33. – P. 315-322.
18.Malbrain M. L., Chiumello D., Pelosi P. et al. Prevalence ofintra-abdominal hypertension in critically ill patients: amulticentre epidemiological study. Intensive Care Med.– 2004. – Vol. 30. – P. 822-829.
19.Members of the American College of ChestPhysicians/Society of Critical Care Medicine ConsensusConference Committee. American College of ChestPhysicians/Society of Critical Care Medicine consensusconference: definitions of sepsis and organ failure andguidelines for the use of innovative therapies in sepsis //Crit. Care Med. – 1992. – Vol. 20. – P. 864-874.
20.Odeberg S., Ljungqvist O., Svenberg T., et al.Haemodynamic effects of pneumoperitoneum and theinfluence of posture during anaesthesia for laparoscopicsurgery // Acta Anaesthesiol. Scand. – 1994. – Vol. 38.– P. 276-283.
21.Odeberg S., Ljungqvist O., Sollevi A. Pneumoperitoneumfor laparoscopic cholecystectomy is not associated withcompromised splanchnic circulation // Eur. J. Surg. –1998. – Vol. 164. – P. 843-848.
22.Plantefeve G., Hellmann R., Pajot O. et al. Abdominalcompartment syndrome and inraabdominal sepsis: twoof the same kind? // Acta Clinica Belgica. – 2007. – Vol.62. – P. 162-167.
23.Rangel-Frausto M. S., Pittet D., Costigan M. et al. Thenatural history of the systemic inflammatory response(SIRS) // JAMA. – 1995. – Vol. 273. – P. 117-123.
В статье Р. В. Акопяна убедительно и доказа-тельно подчёркнуто значение внутрибрюшнойгипертензии (ВБГ) как критерия выживаемостибольных, находящихся в критическом состоя-нии. Главное достоинство этого исследования врациональном клинико-физиологическом и ста-тистическом анализе феномена внутрибрюшнойгипертензии, сопровождающейся снижениемабдоминального перфузионного давления.
Редакция журнала полностью согласна с рас-суждениями и выводами автора о лёгкости иважности измерения ВБГ при критическихсостояниях больных. Вместе с тем хотелось быподчеркнуть, что ВБГ почти всегда связана скомпонентами полиорганной недостаточности(ПОН), что подтверждают и материалы автора.Из данных литературы последних лет (работы
M. L. Malbrain и многих других) известно, чтоВБГ вторична по отношению к ПОН, хотя воз-никнув, может усугубить абдоминальный меха-низм ПОН. Следовательно, мы должны пред-упреждать и лечить ПОН независимо от наличияили отсутствия ВБГ. Существующая«Конституция Всемирной ассоциации по абдо-минальному гипертензивному синдрому» пропо-ведует знание этого синдрома, чтобы «продви-гать самые высокие стандарты ухода, образова-ния и научных исследований этого синдрома приведении больных, находящихся в критическомсостоянии», следовательно, тех больных, кото-рые имеют полиорганную дисфункцию даже приотсутствии ВБГ.
Профессор А. П. Зильбер
Примечание редакции
Реаниматологическая помощь больным хирургического профиля
29

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ И ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВАИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИП. И. Миронов
METHODOLOGY FOR ASSESSING AND WAYS OF IMPROVING THE QUALITYOF INTENSIVE CARE P. I. Mironov
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа
Цель обзора литературы – анализ дискутабельных положений в методологии оценки качества ока-зания медицинской помощи в отделениях интенсивной терапии. Представлена информация зарубеж-ных авторов о подходах к решению данной проблемы, и оценена возможность использования этогоопыта в отечественных условиях. Рассмотрены трудности, возникающие при внедрении комплексамер по совершенствованию качества проведения интенсивной терапии. Отмечена важность внедренияв клиническую практику отделений интенсивной терапии не только идеологии доказательной меди-цины, но и современного эффективного менеджмента.
Ключевые слова: интенсивная терапия, оценка качества, методология.
The aim of a literature review is to analyze discussable points in the methodology of assessing thequality of medical care in intensive care units. Foreign authors’ information on approaches to solving thisproblem is given and the feasibility of applying this experience under Russian conditions assessed.Difficulties arising from the introduction of a package of measures to improve the quality of intensive careare considered. It is noted that it is important to introduce not only the ideology of evidence-based med-icine, but also the present-day effective management into clinical practice of intensive care units.
Key words: intensive care, quality assessment, methodology.
Известно, что безопасность пациентов и пер-сонала отделений интенсивной терапии (ОИТ) взначительной мере связана с качеством оказаниямедицинской помощи (КМП) [32]. Тот факт, чтооценка КМП способствует её улучшению, неодно-кратно подтверждён результатами исследований[27, 32]. Однако дефиниция и оценка качествалечения в ОИТ представляют собой весьма слож-ную задачу. Это связано с тем, что на рубеже вековмногие из традиционных подходов в оптимизациидеятельности ОИТ оказались недостаточно адек-ватными из-за вновь возникших вызовов, такихкак ухудшение демографической ситуации, изме-нение характера спроса на технологии жизнеобес-печения, возросшее давление государственныхструктур на характер оказания медицинскойпомощи. Кроме того, до сих пор неясно, исполь-зуют ли данные, полученные при оценке качествамедицинской помощи, для принятия конкретныхклинических решений [23]. На протяжениипоследнего десятилетия потребность иметьнаглядные способы представления и количествен-ной оценки КМП, ощущаемая чиновниками пра-вительства, страховыми компаниями и корпора-тивными потребителями, служила основной дви-жущей силой исследований, посвящённых данной
теме. В то же время оценка КМП в пониманииспециалистов, занимающихся организационной ифинансовой стороной её оказания, как правило,представляет собой формальный анализ её эконо-мической целесообразности. В частности, совре-менные российские нормативно-правовые акты,регламентирующие качество оказания медицин-ской помощи, основаны на учёте времени её ожи-дания, соблюдения стандартов лечения (в рамкахобязательного медицинского страхования) исоблюдения требований к условиям её предостав-ления.
До настоящего времени в отечественной лите-ратуре недостаточно представлена «профессио-нально-ориентированная» точка зрения, свой-ственная специалистам в области интенсивнойтерапии, практикующим врачам, медицинскимсёстрам.
Пути оценки качества интенсивной терапии.Классическая модель А. Donabedian для описанияпонятия качества использует три составляющих –структуру, процесс и исход [9].
Структура оказания медицинской помощиопределяется материальными ресурсами клиники.Предшествующий опыт показал, что оценка каче-ства работы ОИТ только на основе анализа матери-
Вестник анестезиологии и реаниматологии 2010. Т. 7, № 3
30

ально-технического обеспечения приводит к весь-ма гетерогенным результатам, особенно если этаоценка основана на учёте выживаемости [22, 46].Кроме того, некоторые консенсусные предложенияв руководствах и рекомендациях, касающиесяструктуры ОИТ, не были поддержаны подавляю-щим большинством экспертов [13, 40].Практикующие врачи, как правило, соглашаются стем, что материальное обеспечение ОИТ влияет напроцесс оказания медицинской помощи, но степеньэтого влияния очень трудно идентифицировать исложно измерить, особенно степень влияния реин-новаций на качество сестринской помощи [39].
Оценка процесса оказания медицинской помо-щи в ОИТ, особенно пользы, которую приносятспецифические интервенции для пациента, долж-ны иметь надёжный количественный показатель.К сожалению, даже обоснованные рекомендациипо лечебной тактике (например, ОРДС или сепси-са) не всегда разработаны на основе исследованийвысокого уровня доказательности [11]. В частно-сти, неоднозначны результаты исследований позначимости контроля уровня гликемии и назначе-нию активированного протеина С при сепсисе.Всё это подтверждает тот факт, что идентифика-ция и внедрение специфических маркёров измере-ния качества процесса интенсивной терапии чрез-вычайно затруднительны [43].
Следующий фактор, который необходимопринимать во внимание в измерении процессаработы коллектива ОИТ, – сфокусированность надостижении результата в составе единой команды.Одним из подходов, обеспечивающих это, являет-
ся внедрение технологии контрольных карт,широко применяемых в настоящее время в авиа-ции [33]. Р. Provonost с коллегами разработалимодель контрольной карты, обеспечившей реаль-ную эффективность выполнения манипуляциисосудистого доступа за счёт сокращения частотыразвития катетер-ассоциированной ангиогеннойинфекции [36]. Она была использована более чемв 100 ОИТ штата Мичиган, и с её помощью уда-лось существенно сократить данный вид нозоко-миального инфицирования, но это сопровожда-лось существенным ростом затрат ресурсов отде-лений.
Связанные с пациентами исходы должны бытьоднозначно количественными и практически неподвержены смещению. Летальность и расчётпоказателя лет жизни с учётом утраты здоровья(disability-adjusted life years DALY) могут слу-жить фундаментальными маркёрами качества какотносительно пациента, так и ОИТ [32]. Почти всеопределения высококачественной медицинскойпомощи – это меры, в результате которых улуч-шаются исходы – лечения заболевания.Летальность или возможность фиксации степенириска летального исхода наиболее часто исполь-зуемые переменные в ОИТ. Кроме этого, обычноучитывают длительность лечения в ОИТ и дли-тельность стационарного лечения.
Дальнейшее развитие определение качестваполучило в рекомендациях Национальной счёт-ной палаты США по измерению качества(NQMC) [17], которые выделяют пять релевант-ных доменов этого термина (табл. 1).
Таблица 1 Определение понятия качества NQMC, адаптированное к здравоохранению
Таким образом, идентификация и оценка каче-ства интенсивной терапии требуют знания меди-цины, этики, экономики, логистики, социологии ифилософии. Усилия по измерению возможностейОИТ должны придерживаться двух основныхпринципов:
1. Учёт множества параметров, при помощикоторых за короткое время можно охарактеризо-вать ОИТ.
2. Использование тех измеряемых характери-стик, которые, прежде всего, являются релевант-ными или имеют непосредственное отношение кприоритетным показателям деятельности ОИТ.
Причём оценка потенциала ОИТ требуетколичественно определяемых параметров, кото-рые относятся к пациенту, обществу и клинике.Литературные данные рекомендуют учитыватьшесть таких параметров: исходы; безопасностьпациента, стоимость и затратность, характеристи-ка персонала, характер управления; внутренняяатмосфера ОИТ [39].
Исходы. Традиционно возможности ОИТ оце-нивают на основе использования показателя стан-дартизированного отношения смертности (соотно-шение между реальной (О) и предсказанной (Р)госпитальной летальностью). Если, например, для
Реаниматологическая помощь больным хирургического профиля
31

100 последовательно поступивших в ОИТ пациен-тов соотношении О/Р менее 1,0, то потенциалхороший, при превышении уровня в 1,0 – плохой[37]. Однако в реальности очень трудно точно оце-нить уровень ОИТ, ориентируясь только на этотпоказатель. К сожалению, в настоящее время име-ется значительное число публикаций, которыедемонстрируют, что оценка риска летального исхо-да не является ни действенной, ни валидной техно-логией идентификации качества лечения в ОИТ[8, 45]. В сущности, подобным путём мы измеряемтолько эффективность работы ОИТ, но не клини-ческую значимость этой службы [39].
Оценку риска летального исхода, как правило,определяют на основе использования шкал оцен-ки тяжести состояния (ОТС). Они подразделяют-ся на две большие группы: предиктивные шкалы(системы APACHE и SAPS) и шкалы текущейоценки состояния (SOFA, MODS и LODS).Первые были разработаны для того, чтобы лучшеописать тяжесть заболевания путём определенияисходного состояния популяции тяжелобольных.Они способны максимально точно предсказыватьриск гибели среди различных групп пациентовОИТ. Другая группа шкал была разработана длятого, чтобы лучше описать тяжесть заболевания втечение всего периода нахождения больного вОИТ. Они предполагают необходимость в еже-дневном сборе данных о степени нарушенияфункции органов и систем с момента поступленияпациента в ОИТ до его выписки или гибели ипредназначены для того, чтобы максимальнозначимо отразить степень и характер дисфункцииорганов и систем у больных различных групп вдинамике течения заболевания.
Соответствие уровня прогнозируемой леталь-ности реальной является основной конечной точ-кой оценки их валидности. Смерть – наиболеежёсткий показатель, не требующий консенсуса воформлении диагноза и не зависящий от внутрен-него контроля исследователя. Однако данныйподход имеет и существенные ограничения. Длявсех систем ОТС наиболее важной является про-блема смещения результатов, связанная с влияни-ем лечебной тактики, так как шкалы включаютпеременные, которые модулируются в процессепроведения интенсивной терапии. Таким образом,они не способны отдифференцировать влияниеинтенсивной терапии на тяжесть болезни, но этосмещение неизбежно, если его не корригироватьпутём прекращения лечения тяжелобольного [24].
Например, адекватная ИВЛ быстро улучшаетоксигенацию и рН крови, что в конечном итогеискажает прогноз. В данных условиях среднийбалл будет выше в отделениях с менее эффектив-ной лечебной тактикой, а в более прогрессивныхОИТ будет занижен риск гибели пациента.Внедрение технологии ранней целенаправленной
терапии ещё более искажает прогностическуюценность любой шкалы. Агрессивная инфузион-ная терапия при этом проводится уже в приёмномпокое стационара ещё до поступления пациента вОИТ. А мониторинг тяжести состояния осуществ-ляется только при поступлении больного в ОИТ.Кроме того, все эти оценочные системы высокова-лидны только в отношении краткосрочного про-гноза (смерть в ОИТ). Более того, измененияуровня летальности в ОИТ, происходящие со вре-менем, требуют повторной оценки их дискрими-национной и калибрационной способности вновых условиях [44].
Таким образом, существует настоятельнаянеобходимость поиска предикторов, которыемогут определить течение болезни и летальностькак при нахождении больного в ОИТ, так и припереводе из него. Данный подход способен улуч-шить не только краткосрочный, но и долгосроч-ный прогноз. Хотя недавно было показано, чтоперенесённые критические состояния сказывают-ся на долговременной выживаемости и качествежизни, однако имеются весьма скудные доказа-тельства влияния на это интенсивной терапии [4].
В то же время существует большое количестводругих исходов, которые имеют значение для паци-ентов, их семей и практикующих докторов.Технологии их вычисления известны. Но они немогут использоваться в рутинной клиническойпрактике, поскольку необходимая для этогоинформация не заносится в стандартную базу дан-ных о пациенте (история болезни). Речь идёт очастоте встречаемости медицинских ошибок инозокомиального инфицирования, удовлетворён-ности пациента и семьи лечением в ОИТ, об уровнепрофессионального выгорания персонала, каче-ственной характеристике контингента погибших,качестве прожитых лет жизни после лечения [4,15].
Безопасность пациента. При использованиивысокоинвазивных технологий жизнеобеспече-ния в ОИТ существует высокий риск ятрогенногоповреждения. В США среди экстренно госпитали-зированных больных частота неблагоприятныхисходов составляет примерно 4%, а в подгруппепациентов высокого риска она выше в пять раз[28]. Следовательно, возникает необходимостьсбора данных о случаях диагностических и лечеб-ных ошибок в ОИТ, которые могут охарактеризо-вать слабые стороны организации лечебного про-цесса. Анонимно осуществлённый в США более15 лет назад сбор информации в 31% ОИТ страныпоказал, что частота различных осложненийсоставляет примерно 1,7 на одного пациента всутки [10]. Причём 60% осложнений являлисьрезультатом ошибок лечения [10]. В специальномисследовании, осуществлённом позже и оцени-вающем ошибки лечения, они встречались в 3,6%назначений, 81% из них были клинически значи-
Вестник анестезиологии и реаниматологии 2010. Т. 7, № 3
32

33
Реаниматологическая помощь больным хирургического профиля
мыми [6]. В недавнем исследовании Critical CareSafety Study 120 неблагоприятных событий былиидентифицированы у 79 (20,2%) пациентов ивстречались они с частотой 81 случай на 1 000койко-дней. 45% из них были предотвратимы,серьёзные ошибки встречались с частотой 150 на 1 000 койко-дней [38]. Атрибутивное влияниечеловеческого фактора имело место при 63–83%всех клинических инцидентов, и каждая третьяошибка в ОИТ была вызвана коммуникационны-ми проблемами [48]. От 30 до 51% всех этих про-исшествий угрожали безопасности пациента [20].К сожалению, подобные отечественные исследо-вания чрезвычайно редки.
Стоимость и утилизация ресурсов. Более чем4 млн человек ежегодно госпитализируют в ОИТСША, стоимость их лечения оценивается в 180млрд долларов [35]. Один день пребывания вОИТ стоит от 2 до 3 тыс. долларов, что в шесть развыше, чем в других отделениях клиник, а общийобъём затрат на ОИТ составляет 10–20% бюджетаклиники [30]. В идеальных обстоятельствах эко-номическое давление и финансовые ограничениямогут иметь позитивное влияние на развитиездравоохранения, так как процесс и структурамогут приобрести единую направленность и спо-собствовать элиминации ненужных затрат безснижения качества лечения [7].
Рабочая сила. Среди всех контролируемыхфакторов, влияющих на производительностьОИТ, наиболее важным является человеческийкапитал или рабочая сила. Это люди, которые под-держивают и улучшают систему и процесс органи-зации интенсивной терапии. Следовательно,совершенствование их мастерства, образования ивнутренней культуры – основной элемент успехауправления человеческими ресурсами. В то жевремя это и наиболее подвергаемый критикеактив ОИТ. Некоторые исследователи указывают,что возможности медицинского персонала улуч-шаются в условиях изменения формы контроля(эффект Hawthorne) [18].
Несмотря на высокий уровень знаний, нали-чие современного оборудования, компетентностьи самоотдачу персонала, уровень летальностипациентов даже в передовых ОИТ составляет 10–20% [42]. Тяжесть и гетерогенность популяциипациентов требуют в данном случае большогоэмоционального напряжения от тех, кто работаетв условиях постоянного стресса. В сложившейсяситуации очевидна необходимость специальныхнормативных актов для оценки интенсивноститруда врача анестезиолога-реаниматолога с учё-том производственной нагрузки, личной ответ-ственности за жизнь и здоровье пациента, значи-мости конфликтов интересов, позволяющих раз-работать меры профилактики синдрома профес-сионального выгорания.
Управление ОИТ. Работы, изучающие моделибизнес-менеджмента, установили важность ролируководства в достижении желаемого эффекта. Ужедоказано, что управление имеет сильную взаимо-связь (более чем в два раза превышающую другиефакторы) с результатами бизнеса [31]. Медицинакритических состояний – это специальность, кото-рая характеризуется высокой степенью интерактив-ности и междисциплинарным подходом, что огра-ничивает число исследований, посвящённых про-цессу руководства и мастерства менеджмента вОИТ. R. J. Strack van Schijndel и Y. Burchard предла-гают для управления деятельностью ОИТ исполь-зовать следующие управленческие подходы: отдачуприказа, ежедневные собрания, работу в команде,управление ресурсами, планирование мероприятийи бюджета, контроль за подчинёнными, менедж-мент конфликтов и ведение переговоров [41].
Другими не менее важными задачами дляруководителя ОИТ являются уменьшение текуче-сти персонала, профилактика «профессионально-го выгорания», создание культуры позитивногокомандного мышления, поддержание хорошегомикроклимата в отделении, предотвращениеизбыточной потери ресурсов.
Внутренняя среда ОИТ. Это понятие обычноподразумевает модель организации ОИТ (закры-тая или открытая), квалификационную характери-стику персонала, культуру работы и общения вколлективе, уровень оснащения оборудованием иперечень используемых лечебно-диагностическихтехнологий. Известно, что закрытые ОИТ (состоя-щие только из врачей анестезиологов-реанимато-логов) обеспечивают лучшие исходы при меньшихзатратах [34], а низкое соотношение сестра/паци-ент (менее 1/3) характеризуется увеличениемриска нозокомиального инфицирования [16].
Пути улучшения качества лечения в ОИТ.Совершенно очевидно, что качество лечения вОИТ невозможно радикально улучшить на основеиспользования только медицинских подходов,даже если они сформированы на принципах дока-зательной медицины.
В настоящее время наиболее эффективноповысить качество интенсивной терапии можнопри использовании современных технологий«доказательного менеджмента», способных задей-ствовать внутренние факторы улучшения каче-ства медицинской помощи в ОИТ. Число концеп-ций, которые могут быть реально адаптированыдля условий ОИТ из общедоступных источниковпо ведению бизнеса, невелико (табл. 2). Это связа-но прежде всего с тем, что большинство налого-плательщиков очень редко являются потребите-лем этого рынка. Кроме того, на выбор тактикилечения в ряде стран существенное давление ока-зывает фармацевтический маркетинг. Положениеосложняется и тем, что за последнее десятилетие в

реальную практику ОИТ внедрено множествоновых мультидисциплинарных терапевтических
технологий, которые изменили традиционныйхарактер лечебного процесса в ОИТ [3].
Таблица 2 Стратегии достижения улучшения качества интенсивной терапии [37]
Для руководства ОИТ крайне важно сфокуси-ровать внимание на наиболее приемлемых орга-низационно-маркетинговых мероприятиях длякаждого конкретного отделения. Наиболее обсуж-даемыми в последние годы за рубежом бизнес-подходы для достижения данных целей в медици-не являются теория ограничений (Theory of con-straints – ТОС), сформулированная израильскимфизиком Элияху Голдратом в начале 1980-х годов[2], и методология технологии бережливости(Lean орerations) [1].
Cчитается, что внедрение концепции теорииограничений позволяет повысить эффективностьработы компании почти без дополнительныхинвестиций и расширения штата. Главное – пра-вильно выбрать точки приложения усилий. Длядостижения результатов компаниям предлагаетсясделать всего пять шагов.
Шаг 1. Найти ограничения системы. Для нача-ла выявляются нежелательные явления (симпто-мы проблем) в работе производства. Далее строит-ся карта операционного потока. На неё наноситсяпоследовательность операций от поставки сырьядо выпуска готового продукта, оценивается про-изводительность каждого этапа. Выявляетсязвено с самой низкой производительностью.«Узкое место» можно узнать по наибольшемуколичеству проблем – жалоб, неурядиц, авралов изначительному объёму незавершённой работы.
Шаг 2. Увеличить пропускную способность«узкого места». Оперативные действия по повы-шению пропускной способности. Например, осво-бодить «узкое место» от выполнения заданий,которые можно передать на другие участки, и,конечно, гарантированно обеспечить его работой.Ведь потеря рабочего времени в «узком месте»обозначает невосполнимую потерю эффективно-сти всей системы. Кроме того, «узкое место»
необходимо защитить от возможного простоя(если участок «выше по течению» не сможетвовремя обеспечить его сырьём), создав емурезерв работы.
Шаг 3. Подчинить работу остальных частейсистемы ритму работы тормозящего производ-ство участка. Размер партий деталей, а такжеритм их подачи определяется потребностями«узкого места».
Шаг 4. Уменьшить ограничение системы.Например, увеличить мощности, а соответствен-но, и пропускную способность «узкого места»,установив дополнительное оборудование, а такжепродолжать повышать эффективность путёмборьбы с потерями, оптимизации техпроцесса,перераспределяя работы в системе таким образом,чтобы снизить нагрузку на «узкое место».
Шаг 5. Вернуться к шагу 1. Если рассматри-ваемый участок перестал быть «узким местом» –запустить процесс заново и искать новое препят-ствие, постоянно поднимая тем самым систему нановый уровень производительности.
«Бережливое производство» – это системавыявления и ликвидации потерь. Потери – это то,что не нужно клиенту. Дж. Вумек и Д. Джонс изла-гают суть бережливого производства в виде пятипринципов: определение ценности конкретногопродукта; оформление потока создания ценностидля этого продукта; создание непрерывного тече-ния потока создания ценности продукта; обес-печение возможности «вытягивания» продуктапотребителем (предоставление лечебно-диагно-стических услуг и технологий соответственноспросу пациента, а не возможностей и желанияОИТ); стремление к совершенству [1]. Данныйподход направлен на сокращение времени выпол-нения заказа с помощью уменьшения всех видовпотерь: материальных, финансовых, временных.
Вестник анестезиологии и реаниматологии 2010. Т. 7, № 3
34

35
Реаниматологическая помощь больным хирургического профиля
Систематическое выявление и устранение потерь,настройка производственных процессов в зависи-мости от потребности клиента и стремление к без-упречности во всем – основные тезисы этой фило-софии. С её точки зрения всё, что не создаёт цен-ности для потребителя, нерационально для него,должно быть удалено из цепочки производства ипоставок, так как это сильно снижает вероятностьуспеха всего бизнеса.
Как Lean, так и ТОС-технологии подаются каккомплекс изменений, охватывающий всю цепочкуот сбыта до поставщиков, и все сферы – от мента-литета людей до технологии производства.Роднит их и принцип «вытягивания», когда накаждой стадии производства работа не начинаетсядо тех пор, пока не будет закончена предыдущая (аизначально – пока не поступит заказ от клиента).Кроме того, и в одной и в другой теории присут-ствует понятие ритма. В Lean есть «время такта» –время работы производства (например, однасмена), делённое на скорость, с которой потреби-тель требует получения товара. Согласно реко-мендации теории ограничения, ритм работылюбой системы определяется «узким местом».Применительно к здравоохранению это подчине-ние ритма работы клиники наиболее конфликтно-му её участку. Как правило, это положение зани-мает отделение(я) интенсивной терапии.
Современный менеджмент указывает, чтоизлишнее разнообразие лечебных методик можетвызвать неопределённость и увеличить частотуошибочных решений, поэтому очень важнымпредставляется найти единственный наилучший«путь к безопасному полноценному действию схорошим исходом и высоким качеством» [29].Существуют доказательства того, что имеютсявариации среди врачей ОИТ в затратах матери-альных средств и усилий при лечении однотип-ных больных [19]. J. E.Wennberg идентифицируеттри различных типа неуполномоченных вариацийв медицинской деятельности: 1) вариации вэффективности и безопасности лечения (чрезмер-ная стандартизация); 2) вариации, связанные пре-имущественно с восприимчивостью к лечению (врамках информированного согласия пациентвыбирает вид лечения, а врач противится этому);3) вариации в обеспечении восприимчивости кмедицинской помощи (существование различныхтипов организации медицинской помощи для лиц,имеющих одно и то же заболевание, но проживаю-щих в разных регионах) [47].
Подобное положение вещей не только не соот-ветствует принципам доказательной медицины,но и вступает в конфликт со справедливостью.Выход из данной ситуации – разумная стандарти-зация терапевтических подходов и разработкапротоколов лечения в ОИТ. Несмотря на то что невсегда можно стандартизировать исходы лечения,
растёт поддержка использования в ОИТ такойметодики, как контрольные листы [14, 33], в кото-рых в стандартизированной форме указаны основ-ные пункты протокола интенсивной терапии кон-кретного заболевания или интервенции.Контрольные листы являются эффективныминструментом влияния на поведение персонала,но только в том случае, если они подготовлены дотого, как пациент поступил в ОИТ.
Хотя преимущества использования процессовобратной связи, в частности информирования обисходах лечения в ОИТ, очевидны для мотивациикаждого конкретного лечебного учреждения,попытки использовать данную информацию какинструмент принятия решения пациентами иинструмент улучшения качества медицинскойпомощи до настоящего времени не полностью реа-лизованы [12]. В частности, предпринятая 30муниципальными клиниками Кливленда запериод с 1991 по 1997 г. программа публичногоинформирования о показателях работы клиник неизменила статистически значимо характер рынкамедицинских услуг и не оказала влияния на пока-затели деятельности стационаров [5]. Таким обра-зом, информация о клинических характеристикахдеятельности больницы не имеет достаточнойобратной связи, чтобы повлиять на выбор клини-ки самим пациентом.
Аудит и создание обратной связи путём отмет-ки потенциала ОИТ могут быть использованы приоценке технологии некоторых интервенций сцелью идентификации места их наилучшеговыполнения и, соответственно, распространенияопыта. В частности, J. E. Zimmerman применяетоценочные механизмы для идентификации высо-копрофессиональных ОИТ на основе утилизацииресурсов в соответствии с запросами пациентов[50]. Это позволяет идентифицировать стратегию итактику таких мероприятий, как обеспечениепошагового внедрения процесса соответствия лече-ния нуждам пациентов (комплаентность) принаименьших затратах ресурсов. Однако попыткиобеспечить отчётливые пороговые значения приме-нительно к определённым обстоятельствам, такимкак, например, вентилятор-ассоциированная пнев-мония, пока ещё имеют незначительный успех из-за трудностей стандартизации и идентификацииприоритетности лечебных мероприятий [49].
Кроме того, в условиях ограниченности ресур-сов отечественного здравоохранения и трудностейдоступа врачей к качественным медицинскимбазам данных фармацевтическая индустрия стре-мится эффективно изменить клиническое мышле-ние специалиста путём различных маркетинговыхмероприятий. Как правило, в этот процессвовлечены лидеры мнения коллектива. Однакосложность маркетингового подхода в ОИТ ослож-няется тем, что до настоящего времени остаются

недостаточно изученными и не имеют доказатель-ной базы такие технологии, как влияние показате-ля эффективности лечения и данных анализастоимость – эффективность на улучшение каче-ства интенсивной терапии. Возможно, это связанос тем, что стратегию улучшения качества лечениядостаточно сложно проанализировать в гетероген-ной популяции пациентов ОИТ, требующих муль-тидисциплинарного подхода [3, 25].
Заключение
Безусловно, создание единых методов оценкикачества медицинской помощи в ОИТ крайненеобходимо, однако существенные различиямежду национальными и региональными система-ми здравоохранения, в частности в вопросах тра-диций, доступности данных, наличия практиче-ских руководств и т. п., делают эту задачу оченьсложной. Нельзя забывать, что оценка КМП свя-зана с финансовыми затратами, которые ложатсядополнительным грузом на службу здравоохране-ния. Истинная важность оценки качества меди-цинской помощи станет очевидной только послетого, как будет доказано, что она позволяет отчёт-ливо повысить эффективность работы системыздравоохранения, а потребители медицинскихуслуг руководствуются полученными результата-
ми при принятии решения.В значительной мере это может быть связано
с использованием в медицине критическихсостояний идеологии не только доказательноймедицины, но и «доказательного менеджмента»[26]. Отсутствие данного системного подхода вотечественном здравоохранении приводит к тому,что в целях улучшения качества медицинскойпомощи в ОИТ зачастую применяется не регули-руемые специалистами в области интенсивнойтерапии административные рычаги или исполь-зуется менее эффективное, но более широко рас-пространённое воздействие через традиционныепути медицинского образования – лекции и пись-менные материалы, параллельно осуществляемыегосударственной системой последипломногообразования и фармацевтическими компаниями.
ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ:
Миронов Петр Иванович Башкирский государственный медицинский университетдоктор медицинских наук, профессор кафедры скоройпомощи и медицины катастроф Института
последипломного образования. 450073, г. Уфа, а/я 2. Тел.: (3472) 36-73-70. E-mail: [email protected].
1.Вумек Дж., Джонс Д. Бережливое производство. Как изба-виться от потерь и добиться процветания вашей ком-пании. – М:. Альпина Бизнес Букс . – 2005. – 478 с.
2.Голдрат Э., Кокс Д. Цель. Процесс непрерывного совер-шенствования. – М.: Поппури. – 2007. – 182 с.
3.Руднов В. А. Медицина, основанная на доказательствах винтенсивной терапии: анализ современного состоянияпроблемы // Интенс. терап. – 2005. – № 1. – С. 7-14.
4.Angus D. C. Carlet J. editors. Surviving intensive care //Springer-Verlag. – 2002. – P. 322.
5.Baker D. W., Einstadter D., Thomas C. et al. The effect of pub-licly reporting hospital performance on market share andrisk-adjusted mortality at high-mortality hospitals //Med. Care. – 2003. – Vol. 41. – P. 729-740.
6.Buckley M. S., Erstad B., Kopp B. et al. Direct observationapproach for detecting medication errors and adverseevents in pediatric intensive care unit // Pediatr. CritCare Med. – 2007. – Vol. 8. – P. 145-152.
7.Chalfin D. B., Cohen I. L., Lambrinos J. The economics of costeffectiveness of critical care medicine // Intens. CareMed. – 1995. – Vol. 21. – P. 952-961.
8.Chassin M. R., Hannan E. L., DeBuono B. A. Benefits and haz-ards of reporting medical outcomes publicly // NEJM. –1996. – Vol. 334. – P. 394-398.
9.Donebian A. the quality of care. How can it be assessed? //JAMA. – 1988. – Vol. 260. – P. 1743-1748.
10.Donchin Y., Gopher D., Olin M. et al. A look into the natureand causes of human errors in the intensive care unit. The
hostile envirioment of the intensive care unit // Crit. CareMed. – 1995. – Vol. 23. – P. 294-300.
11.Eichacker P. Q., Gerstenberger E. P., Banks S. M. et al. Meta-analysis of acute lung injury and acute respiratory distresssyndrome trials testing low tidal volumes // Am. Respir.Crit. Care Med. – 2002. – Vol. 166. – P. 1510-1514.
12.Hannan E. L., Kilburn H., Racz M. еt al. Improving the out-comes of coronary artery bypass surgery in New York state// JAMA. – 1994. – Vol. 271. – P. 761-766.
13.Haynes A. B., Weiser T. G., Berry W. R. et al. Surgical safetychecklist to reduce morbidity and mortality in a globalpopulation // New Engl. J Med. – 2009. – Vol. 360. –P. 491-499.
14.Haupt M. T., Bekes C. E., Вrilli R. J. et al. // Critical careservices and personnell: recommendations based on a sys-tem of categorization into two level of care // Crit. CareMed.– 1999. – Vol. 27. – P. 422-426.
15.Heyland D. K., Rocker G. M., Dodek P. M. et al. Family sat-isfaction with care in the intensive care unit: results of amultiple center study // Crit. Care Med. – 2002. – Vol.30. – P. 1413-1418.
16.http: //www.qualitymeasures.ahrg.gov/resources/glossary.aspx17.Hugonnet S., Chevrolet J.C., Pittet D. The effect of workload
on infection risk in critically ill patients // Crit. CareMed. – 2007. – Vol. 35. – P. 76-81.
18.Gale E.A.M. The Hawthorne studies – a fable for our time?// Q. J. Med. – 2004. – Vol. 97. – P. 439-449.
19.Garland A., Shaman Z., Baron J., Connors A.F. Physician-
Литература
Вестник анестезиологии и реаниматологии 2010. Т. 7, № 3
36

37
Реаниматологическая помощь больным хирургического профиля
attributive differences in intensive care unit costs // Am.Respir. Crit. Care Med. – 2006. – Vol. 174. –P. 1206-1210.
20.Giraud T., Dhainaut J., Vaxelaire J. Iatrogenic complicationsin adult intensive care unit, a prospective two centerstudy // Crit. Care Med. – 1993. – Vol. 21. – P. 40-51.
21.Graban M. Lean Hospitals / New York: CRC Press. – 2009.–176 p.
22.Groeger J. S., Strosberg M. A., Halpern N. A. et al.Descriptive analysis of critical units in the United States// Crit. Care Med. – 1992. – Vol. 20. – P. 846-863.
23.Kazandjian V. A., Matthes N., Wicker K. G. Are performancemeasures generic? The international experience of theQuality Indicator Project. // J. Eval. Clin. Pract. – 2003.– Vol. 9. – P.265-276.
24.Lacroix J., Cotting J. Severity of illness and organ dysfunc-tion scoring in children. // Pediatr Crit. Care Med. –2005. – Vol. 6, № 3 (Suppl.). – Р. S126- S134.
25.Landon B. E., Normand S. T., Blumenthal D., Daley J.Physician clinical performance assement: prospects andbarriers // J. Am. Med. Assos. – 2003. – Vol. 290. –P. 1183-1189.
26.Levy M. M., Rapoport J., Lemeshow S. et al. Associationbetween critical care physician management and patientmortality in the intensive care unit // Ann. Intern. Med.– 2008. – Vol. 148. – P. 801-809.
27.Loeb. J. M. The current state of performance measurement inhealth care // International Journal for Quality in HealthCare. – 2004. – Vol. 16(Supplement 1). – Р.i5-i9.
28.Mc Glyann E. N. et al. The quality of health care delivery toadults in the United States // New Engl. J. Med. – 2003.– Vol. 348. – P. 2635-2645.
29.Morris A. H. A call for decision support tools to reduceunnecessary variation quality and safely in health care2004 // Iatrogenic illness. – 2008.– Vol. 13. – P. 80-81.
30.Norris C., Jacobs P., Rapport J. et al. ICU and non-ICU costper day // Can. J. Anaesth. – 1995. – Vol. 42. – P. 192-196.
31.Pannirselvam G..P., Fergusson L. A. A study of the relation-ships between the Baldrige categories // International J.of Quality and Reliability Management. – 2001. – Vol. 18.– P. 14-34.
32.Patient safely and quality of care in intensive care medicine(eds Chiche J.-D., Moreno R., Putensen C., Rhodes A.) /MWV, Berlin. – 2009. – 572 p.
33.Provonost P., Berenholtz S., Dorman T. et al. Improving com-munication in the ICU using daily goals // Crit. Care. –2003. – Vol. 18. – P. 71-75.
34.Provonost P., Needham D. M., Waters H. et al. Intensive careunit physician staffing, financial modeling of leapfrog stan-dard // Crit. Care Med. – 2004. – Vol. 32. – P. 1247-1253.
35.Provonost P. J., Goeschel C. Improving ICU care; it takes ateam // Health Exec. – 2005. – Vol. 20. – P. 15-22.
36.Provonost P., Berenholtz S. M., Goeschel C. A. Creating high
reability in health care organization // Health Serv. Res. –2006. – Vol. 41. – P. 1599-1617.
37.Provonost A., Rubenfeld G. D. Qulity in critical care. / inPatient safely and quality of care in intensive care medi-cine (eds Chiche J.-D., Moreno R., Putensen C., RhodesA.): MWV, Berlin. – 2009. – P. 127-139.
38.Rothschild J. M., Landrigan C.P., Cronin J.M. The criticalcare safety study: the incidence and nature of adverseevents and serious medical errors in intensive care //Crit.Care Med. – 2005. – Vol.33. – P.1694-1700
39.Standards of evidence for the safely and effectiveness of crit-ical care monitoring devices and related interventions.Coalition for Critical Care Excellence; ConsensusConference on Physiologic Monitoring Devices // Crit.Care Med. – 1995. – Vol. 23. – P. 1756-1763.
40.Strack van Schijndel R. J., Burchardi Y. Bench-of-bedsidereview: leadership and conflictmanagement in the inten-sive care unit //Crit. Care – 2007 – Vol. 11. – P. 234.
41.Shukri K., Ali F.S.M. ICU performance: managing with bal-anced scorecards / in 2009 yearbook of intensive care andemergency medicine.(Eds. J-L.Vincent). – Springer-Verlag – 2009. – P. 944-957.
42.The leapfrog group (2004) ICU physicians staffing fact sheet.h t t p : / w w w . l e a p -froggroup.org/media/file/fact_Sheet_IPS081104.pdfAccessed Nov. 2008.
43.The NICE-SUGAR Study Investigators . Intensive versusConventional Glucose Control in Critically Ill Patients //NEJM. – 2009. – Vol. 360. – P. 1283-1297
44.Tilford J.M., Roberson P.K., Lensing S. et al. Differences inpediatric ICU mortality risk over time // Crit. Care Med.– 1998. – Vol. 26. – P.1737-1743.
45.Tomas J. W., Hofer T. P. Research evidence on the validity ofrisk-adjusted mortality rate as measure of hospital qualityof care // Med. Care Res. – 1998. – Vol. 55. – P. 371-404.
46.Vincent J. L., Suter P., Bihari D., Bruining H. Organization ofintensive care units in Europe: lesion from the EPIC study// Intensive Care Med. – 1997. – Vol. 23. – P. 1181-1184.
47.Wennberg J. E. Unwarranted variations in healthcare deliv-ery: implications for academic medical centres // BMJ. –2002. – Vol. 325. – P. 961-964.
48.Wright D., Mackenzie S. J., Buchan I. Critical incidents inintensive care therapy unit // Lancet. – 1991. – Vol. 338.– P. 676-678.
49.Zilberberg M. D., Shorr A. F., Koleff M. H. Implementingquality improvements in the intensive care unit: ventila-tor bungle as an example // Crit. Care Med. – 2009 – Vol.37. – P. 305-309.
50.Zimmerman J. E., Alzola C., Von Rueden K. T. The use ofbenchmarking to idenify top performing critical careunits: a preliminary assessment of heir policies and prac-tices // Crit. Care – 2003. – Vol. 18. – P. 76-86.

ПРАКТИКА ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИЮ. С. Полушин, Д. Н. Проценко, С. С. Петриков, Е. П. Макаренко
THE PRACTICE OF INFUSION THERAPY IN MEDICAL INSTITUTIONS OF THERUSSIAN FEDERATIONYu. S. Polushin, D.N. Protcenko, S.S. Petrikov, Ye.P. Makarenko
Результаты опроса членов Федерации анестезиологов-реаниматологов*
Инфузионно-трансфузионная терапия (ИТТ)является одним из важнейших методов лечения,используемых в анестезиологии и реаниматологии.Эпидемиологическое исследование КРИСКо [1], про-ведённое в 2005 г., продемонстрировало широкоеиспользование кристаллоидов (100%), свежезаморо-женной плазмы (60,1%), декстранов (25,3%) и раство-ров пентагидроксиэтилкрахмала (22,2%) в качествесредств для ИТТ. Большое количество исследований,образовательных программ и конференций, посвя-щённых вопросам волемической терапии, потенци-ально должны были изменить подходы к ИТТ. Данноепредположение явилось основанием для проведениянастоящего эпидемиологического исследования.
Цель исследования – получение объективныхданных о частоте массивной кровопотери и гипово-лемии и представлениях отечественных специали-стов о тактике их коррекции у пациентов, проходя-щих лечение в отделениях анестезиолого-реанима-тологического профиля.
Материал и методы исследования
После разработки регистрационной картыпроведён опрос 62 заведующих отделениями ане-стезиологии и/или реанимации и интенсивнойтерапии из 24 городов и разных регионовРоссийской Федерации (рис. 1). Большая часть
*Исследование проведено авторским коллективом в рамках договора между Федерацией и компанией «Фрезениус Каби». Оно предпо-лагало получение спектра представлений об отношении к инфузионной терапии отечественных специалистов и не направлено на оцен-ку эффективности упомянутых в нём препаратов.
Вестник анестезиологии и реаниматологии 2010. Т. 7, № 3
38
Представлены результаты опроса 62 заведующих отделениями анестезиологии и/или реанимации иинтенсивной терапии из 24 городов РФ. Большая часть отделений (64%) входила в лечебно-профилак-тические учреждения муниципального подчинения, 13% – федерального, 10% – научно-исследователь-ских институтов и 12% – других форм административного подчинения. Полученные данные показали,что за последние три года 67% респондентов изменили тактику инфузионной терапии. Отмечено сни-жение частоты использования свежезамороженной плазмы как компонента объёмозамещающей тера-пии; 62,7% респондентов перешли с декстранов на растворы гидроксиэтилкрахмала.
Однако число лиц, пользующихся протоколами или стандартами инфузий, практически не изменилось.При этом представления о предназначении растворов, относящихся к разным группам, об их сильных и слабыхсторонах действия даже у заведующих отделениями оказались не на самом высоком уровне. Вместе с тем значи-тельная часть респондентов проявила готовность к восприятию информации, публикуемой в журналах, выска-зываемой экспертами и коллегами. Данное обстоятельство свидетельствует о целесообразности продолженияактивной образовательной деятельности в данном направлении.
Ключевые слова:
Представлены результаты опроса 62 заведующих отделениями анестезиологии и/или реанимации иинтенсивной терапии из 24 городов РФ. Большая часть отделений (64%) входила в лечебно-профилактическиеучреждения муниципального подчинения, 13% – федерального, 10% – научно-исследовательских институтови 12% – других форм административного подчинения. Полученные данные показали, что за последние три года67% респондентов изменили тактику инфузионной терапии. Отмечено снижение частоты использования све-жезамороженной плазмы как компонента объёмозамещающей терапии; 62,7% респондентов перешли с декс-транов на растворы гидроксиэтилкрахмала.
Однако число лиц, пользующихся протоколами или стандартами инфузий, практически не изменилось.При этом представления о предназначении растворов, относящихся к разным группам, об их сильных и слабыхсторонах действия даже у заведующих отделениями оказались не на самом высоком уровне. Вместе с тем значи-тельная часть респондентов проявила готовность к восприятию информации, публикуемой в журналах, выска-зываемой экспертами и коллегами. Данное обстоятельство свидетельствует о целесообразности продолженияактивной образовательной деятельности в данном направлении.

отделений (64%) входила в лечебно-профилакти-ческие учреждения муниципального подчинения,13% – федерального, 10% – научно-исследова-тельских институтов и 13% – других форм адми-нистративного подчинения. Полученные данныевносили в электронную базу данных с последую-щей статистической обработкой в программеPASWStatistics 18.0 (SPSS Inc., США). При этомиспользовали описательную частотную статисти-ку, которую выполняли для всех качественных иколичественных анализируемых показателей.
Результаты и их обсуждение
Анализ полученных данных показал, что 45,2%опрошенных заведующих являлись руководителями"единых" отделений анестезиологии-реанимации(ОАР). 22,6% возглавляли многопрофильные отде-ления реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ),
25,7% ОРИТ специализированного профиля (ней-рохирургического – 11,3%, ожогового – 3,2%, кар-диохирургического – 4,8%, терапевтического – 3,2%,хирургического и педиатрического – по 1,6% соот-ветственно). 6,5% руководили отделениями анесте-зиологии. Коечный фонд более половины отделений(56,5%) находился в диапазоне «10–20 коек», в 27,4%– «менее 10 коек» и в 11,3% – «более 20 коек» (пре-имущественно научно-исследовательские институ-ты). Таким образом, спектр участников опроса позво-лял рассчитывать на получение информации, реаль-но отражающей состояние изучаемого вопроса.
Средний койко-день нахождения больных вОРИТ составил 3,98 ± 2,7 сут (рис. 2). При этом в69,2% отделений число пролеченных больных в годпревышало 700 пациентов. Нозологический «про-филь» пролеченных больных представлен на рис. 3.
Ответы на вопрос о частоте встречаемости боль-ных с гиповолемией, в том числе обусловленноймассивной (более 1 500 мл) кровопотерей, показалиследующее: 83,6% опрошенных, т. е. подавляющеебольшинство респондентов, посчитали, что массив-ная кровопотеря имеет место менее чем у 30% боль-ных, которые в течение года лечатся в их отделе-ниях. Данные по частоте встречаемости гиповоле-мии у пролеченных больных представлены на рис. 4.
Рис. 1. Количество городов и центров, включённых в опрос
Рис. 2. Средний койко-день в ОРИТ
Рис. 3. Нозологический профиль больных
Многоцентровые исследования
39

Они показывают, что редкая констатация наличиягиповолемии (менее чем у 30% поступивших в отде-ление) производится в 41,8% отделений. В 46,3%отделений гиповолемия бывает у 30–60% больных.Лишь в 11,9% отделений, по мнению опрошенныхреспондентов, явная гиповолемия характерна длябольшей части (более 60%) больных.
Вместе с тем объёмозамещающую инфузион-ную терапию менее чем у 30% пролеченных боль-ных использует лишь 20,9% респондентов, в диапа-зоне «у 30–60% больных» – 38,8%, а у «более чем60% больных» – 40,3%. Данное обстоятельство сви-детельствует, что либо опрошенные респондентыневерно трактуют понятие «гиповолемия», либоони не всегда обоснованно расширяют показания кинфузионной терапии. В связи с этим обратило насебя внимание, что при проведении объёмозаме-щающей инфузионной терапии методическимирекомендациями и/или стандартами руководству-ется лишь каждый второй опрашиваемый.
Ответы на вопрос «Какие препараты являютсяоптимальными для проведения объёмозамещающейинфузионной терапии?» представлены на рис. 5.
Оказалось, что большинство (63%) опрошенных впрактической работе используют растворы гидро-ксиэтилкрахмала (ГЭК), 27,4% раствор желатины, а9,6% растворы декстрана. Среди растворов ГЭК63,3% опрашиваемых используют раствор пента-крахмала, 48,1% – тетракрахмала, 2,5% – гексакрах-мала, а 4,5% – комбинированные растворы (Гипер-ХАЕС). Каждый второй респондент использует кол-лоидные растворы для улучшения микроциркуля-ции, при этом 60% отдают предпочтение растворам
ГЭК, 28,4% – растворам декстрана, а 11,6% – раство-рам желатины.
При условии достаточного финансирования69,4% респондентов предпочли бы использоватьрастворы ГЭК, 14,5% – растворы желатины, 7,7% –растворы альбумина, 7,5% – комбинированные рас-творы. Среди растворов ГЭК 71,6% опрошенныхотдали бы предпочтение раствору ГЭК 130/0,4.
При анализе недостатков коллоидных растворовбольшинство респондентов считают растворы ГЭКсамыми безопасными препаратами (рис. 6). Наиболеезначимыми недостатками растворов декстрана респон-денты считают негативное влияние на функции почеки систему гемостаза. У растворов желатины значимымнедостатком каждый третий респондент назвал анафи-лактическую реакцию на введение препарата. Болееполовины респондентов считают, что стоимостьявляется главным недостатком растворов альбумина.
67% респондентов отметили, что за последниетри года тактика инфузионной терапии в их отделе-нии претерпела значительные изменения. При этомбольшинство (62,7%) вместо растворов декстранастали использовать растворы ГЭК, 35,9% с растворовдекстранов перешли на растворы желатины, а 1,5%заменили растворы ГЭК растворами желатины.Основными причинами, повлиявшими на изменениерешения, явились данные литературы (42,1%), мне-ние экспертов (21,7%) и коллег (11%), существую-щие стандарты (17,2%), а также личный опыт (8%).
Учитывая, что массивная инфузионная терапияможет приводить в ряде случаев к развитию метабо-лического ацидоза [2], одним из вопросов настояще-го опроса был сформулирован следующим образом:«Может ли развиться метаболический ацидоз врезультате использования несбалансированных рас-творов?» Интересно, что 96% опрашиваемых ответи-ло на него утвердительно. При этом 50,7% респон-дентов считают, что это осложнение возможно вслед-ствие использования несбалансированных кристал-лоидных растворов, 9% – коллоидных, а 40,3% –любого раствора для инфузионной терапии. Отвечая
Рис. 4. Распределение пролеченных больных с признака-ми гиповолемии
Рис. 5. Препараты, которые, по мнению респондентов,являются оптимальными для проведения объёмозаме-щающей инфузионной терапии
Рис. 6. Недостатки коллоидных растворов
Вестник анестезиологии и реаниматологии 2010. Т. 7, № 3
40

на вопрос «В каких случаях может развиваться мета-болический ацидоз при проведении инфузионнойтерапии?», 7,5% опрашиваемых отметили, что этопроблема лечения массивной кровопотери, 55,2% –результат использования больших объёмов инфу-зионной терапии и 37,3% – проблема использованиянесбалансированных растворов во всех случаях ИТТ.Большинство (58,2%) считают, что сбалансирован-ные растворы имеют преимущество перед несбалан-сированными. 34,3% полагают, что это преимуществопроявляется только при использовании их в боль-ших объёмах. 6% уверены, что клиническая значи-мость преимуществ сбалансированных растворовпреувеличена. 68% опрошенных сталкивались с про-блемой метаболического ацидоза вследствие ИТТ,однако, как следует из рис. 7, на самом деле констата-ция его развития происходит довольно редко.
Заключение
Таким образом, проведённый опрос показал, чтоза последние три года в области инфузионно-транс-фузионной терапии произошли некоторые измене-ния. В частности, 67% респондентов внесли коррек-цию в её тактику. Отмечено снижение частотыиспользования свежезамороженной плазмы каккомпонента объёмозамещающей терапии. 62,7%респондентов перешли с декстранов на растворыГЭК. Среди растворов ГЭК 71,6% опрошенныхстали предпочитать ГЭК 130/0,4. Оказалось, что96% респондентов наслышаны о высокой значимо-сти проблемы метаболического ацидоза в результа-те использования несбалансированных растворов ипридают ей большое значение. Однако частота этойпатологии в реальной клинической практике (M ±SD = 19,86 ± 31,92 пациентов в год), согласно полу-ченным данным, весьма незначительна.
Обратило на себя внимание, что по сравнению с
исследованием КРИСКо число лиц, пользующихсяпротоколами или стандартами ИТТ, практически неизменилось (всего +2%). В то же время оказалось, чтопредставления о предназначении растворов, относя-щихся к разным группам, об их сильных и слабых сто-ронах действия даже у заведующих отделениями нахо-дятся не на самом высоком уровне. В то же времяотрадно, что значительная часть респондентов прояви-ла готовность к восприятию информации, публикуе-мой в журналах, высказываемой экспертами и коллега-ми. Эти обстоятельства свидетельствуют о целесооб-разности продолжения образовательной деятельности,целенаправленно отражающей специфические аспек-ты инфузионной терапии (публикация лекций, прове-дение целевых симпозиумов и конференций и т. п.).
ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ:
Полушин Юрий Сергеевич НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН,доктор медицинских наук, профессор, руководительотделения анестезиологии и реаниматологии.
199034, Россия, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 3.Е-mail: [email protected].
Проценко Денис Николаевич Российский государственный медицинский университет,Городская клиническая больница № 7Департамента здравоохранения г. Москвы,кандидат медицинских наук, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии, заместитель главного врачапо медицинской части по анестезиологии и реаниматологии.115446, г. Москва, Коломенский пр., д. 4. Тел.: 8(499) 782-31-03.E-mail: [email protected].
Макаренко Евгений Петрович Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, кандидат медицинских наук, преподаватель кафедры анестезиологии и реаниматологии. Санкт-Петербург, ул. Клиническая, д. 6.Тел. 8 (812) 329-71-48. E-mail: [email protected].
Петриков Сергей Сергеевич Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, доктор медицинских наук, старший научный сотрудникотделения неотложной нейрохирургии. 129090, г. Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3.Тел./факс : +74956808867. E-mail: [email protected].
Рис. 7. Число больных (ежегодно) с метаболическим аци-дозом, развивающимся вследствие инфузионной терапии
1.Руднов В. А., Зубарев А. С., Базаров А. С. и др. Современнаяпрактика инфузионно-трансфузионной терапии в отделе-ниях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) России.Результаты многоцентрового клинико-эпидемиологическо-
го исследования // Интенс. терап. – 2007. № 1. – С. 32-37.2.Zander R: Physiologie und Klinik des extrazellulдren Bikarbonat-
Pools: Plдdoyer fьr einen bewuЯten Umgang mit HCO3- //Infusionsther Transfusionsmed. – 1993. – Vol. 20. – P. 217-235.
Литература
Многоцентровые исследования
41

БАЗИСНЫЙ КОМПЛЕКС ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ТЯЖЁЛОГО СЕПСИСА И СЕПТИЧЕСКОГО ШОКА С УЧЁТОМ СОВРЕМЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ(СООБЩЕНИЕ ВТОРОЕ)В. А. Руднов
A BASIC COMPLEX OF INTENSIVE THERAPY FOR SEVERE SEPSIS AND SEPTIC SHOCK WITH REGARD TO CURRENT RECOMMENDATIONS (COMMUNICATION TWO)V. A. Rudnov
Уральская государственная медицинская академия, г. Екатеринбург
В статье обсуждается современное состояние проблемы диагностики и интенсивной терапии сеп-сиса. При анализе первых результатов внедрения клинических рекомендаций в рутинную практикуустановлено, что в основе интенсивной терапии тяжёлого сепсиса и септического шока должно лежатьсоблюдение ключевых рекомендательных положений Surviving Sepsis Campaign-2008 и РАСХИ-2010.
Ключевые слова: сепсис, септический шок, интенсивная терапия, клинические рекомендации.
The paper discusses the state-of-the-art of the diagnosis of sepsis and its intensive therapy. Analysisof the first results of introducing the clinical recommendations into routine practice has ascertained thatthe observance of the key recommendatory points of the Surviving Sepsis Campaign-2008 and theRussian Association of Surgical Infection Specialists-2010 must underlie intensive therapy for severe sep-sis and septic shock.
Key words: sepsis, septic shock, intensive therapy, clinical recommendations.
Высокий риск развития неблагоприятного исхо-да при тяжёлом сепсисе и септическом шоке послу-жил основанием для создания междисциплинарныхрекомендательных протоколов, объединяющих наи-более обоснованные с позиций доказательной меди-цины положения интенсивной терапии и консоли-дированные мнения авторитетных экспертов. Крометого, в силу огромных затрат, которые несёт обще-ство на лечение сепсиса, необходимость подготовкиформализованных документов была продиктована иэкономическими соображениями.
К настоящему времени наибольшее признаниеспециалистов получили клинические рекоменда-ции (КР) Европейского общества интенсивнойтерапии (ESICM) и Международного сообществаSurviving Sepsis Campaign (SSC), а в нашей стране– Российской ассоциации специалистов по лече-нию хирургических инфекций (РАСХИ) [4, 13, 32].За последние два года увидели свет новые версииклинических рекомендаций SSC и РАСХИ, атакже Немецкого общества интенсивной терапии– SEPNET, в которых при сходстве по большин-ству положений имеется и ряд отличий, в особен-ности касающихся адъювантной терапии [5, 9, 14].
В 2004 г., опираясь на результаты наиболеезначимых контролируемых исследований, экспер-тами SSC был предложен лечебный тактическийалгоритм, который должен быть реализован втечение первых суток после госпитализации и
постановки диагноза (Sepsis bundles) [19].Главный побудительный мотив для его создания –концентрация внимания на определённых компо-нентах интенсивной терапии, раннее выполнениекоторых могло бы способствовать повышениювыживаемости при развитии тяжёлого сепсиса исептического шока. В этой связи в комплексеинтенсивной терапии выделяют две группы мето-дов и средств: базисные, выполнение которыхдолжно быть начато в течение первых суток отмомента постановки диагноза, и адъювантные.
После выхода первой и второй КР началипроводить исследования, оценивающие какрезультаты внедрения протокола в целом, так иего отдельных элементов в рутинную практику.
Цель – обсуждение и обоснование основныхположений базисного комплекса интенсивной тера-пии тяжёлого сепсиса и септического шока с пози-ций современных данных.
Базисный комплекс интенсивной терапии(первые 6 ч)
С позиций патофизиологических изменений,развивающихся при тяжёлом сепсисе и септиче-ском шоке, а также результатов контролируемыхклинических исследований, оценивающих наибо-лее эффективные подходы к лечению, предложеновыделение определённого базисного комплекса(Sepsis bundles) интенсивной терапии, составляю-щие компоненты которого реализуются в опреде-
Вестник анестезиологии и реаниматологии 2010. Т. 7, № 3
42

лённой временной последовательности [19].В первые 6 ч от момента постановки диагноза
приоритетное значение имеют:1) оценка исходного кислородного долга
посредством измерения уровня молочной кисло-ты (МК) в плазме крови,
2) исследование крови на стерильность доназначения антимикробных препаратов,
3) старт эмпирической антибиотикотерапии(АБТ) согласно существующим протоколам,
4) реализация алгоритма ранней целенаправ-ленной оптимизации гемодинамики,
5) рациональный контроль источника инфекции.Выделение обозначенных составляющих
начального этапа имеет особое значение для кли-нических ситуаций, требующих проведения рас-ширенной диагностики (компьютерной томогра-фии (КТ), магнитно-резонансной томографии(МРТ), ультразвукового (УЗИ) или эндоскопиче-ского исследования) и обоснованной задержкипациента на этапе приёмного покоя или отделе-ний неотложной помощи (Emergency department).
Ранняя целенаправленная оптимизация гемо-динамики. Инфузионная терапия принадлежит кпервоначальным мероприятиям поддержаниягемодинамики и, прежде всего, сердечного выбро-са. Её необходимо начинать до поступления паци-ента в ОРИТ. Основными задачами инфузионнойтерапии являются: восстановление адекватнойтканевой перфузии, нормализация клеточногометаболизма, коррекция расстройств гомеостаза,снижение концентрации медиаторов септическо-го каскада и токсических метаболитов.
Предполагается, что значимость соблюденияалгоритма ранней целенаправленной терапииявляется особо важной для лиц, имеющих ткане-вую гипоксию с содержанием МК в плазмекрови более 4 ммоль/л [19], поэтому у пациен-тов с артериальной гипотензией или с повыше-нием уровня МК выше 4 ммоль/л следует стре-миться к быстрому достижению целевых значе-ний следующих параметров: центральное веноз-ное давление (ЦВД) – 8–12 мм рт. ст., АДср. –более 65 мм рт. ст., диурез – не менее 0,5 мл/(кг•ч-1).
Для коррекции гиповолемии с одинаковойэффективностью могут быть использованы каккристаллоиды, так и искусственные коллоиды вмоноварианте или в комбинации. При реализациипротокола ранней целенаправленной терапиинеобходимо придерживаться следующего темпаинфузии – 1000 мл кристаллоидов или 300–500 млколлоидов в течение 30 мин с последующим повто-рением до достижения целевых параметров ЦВД.Скорость инфузии снижают при резком повыше-нии ЦВД, отсутствии признаков улучшения пери-ферической перфузии. Необходимо обращать вни-мание на индивидуальный подбор величины ЦВД
у пациентов, находящихся на искусственной венти-ляции легких (ИВЛ), лиц с исходной лёгочнойгипертензией и диастолической дисфункцией.Верхний его предел составляет 15 мм рт. ст.
Норадреналин и допамин являются препара-тами выбора для достижения целевого уровняартериального давления: AДср. > 65 мм рт. ст. улиц, не отвечающих на волемическое возмещение.
К инфузии адреналина следует прибегатьлишь в случае отсутствия эффекта от допаминаи норадреналина и констатации ситуации реф-рактерного шока. Добавление добутамина иэритроцитарной массы может быть выполненопри гематокрите менее 30% и сатурации крови вверхней полой вене или правом предсердиименее 70% (см. рис.).
В работе E. Rivers et al., послужившей осно-ванием для обозначенной рекомендации, доказа-на эффективность алгоритма ранней целена-правленной терапии в целом, но не его отдель-ных составляющих – добутамина или трансфу-зии эритроцитарной массы – при гематокритеменее 30% [28].
Инвазивный мониторинг гемодинамики спомощью катетера Свана – Ганца расширяет воз-можности контроля и оценки эффективноститерапии, однако доказательств повышениявыживаемости при его использовании не полу-чено [23]. Следует понимать, что в силу значи-тельной вариабельности степени поврежденияэндотелия и состояния лимфодренажа в лёгких,диастолической функции желудочков однознач-но определить величину оптимальной предна-грузки затруднительно. В этой связи алгоритмранней целенаправленной терапии не являетсяуниверсальным [26, 29].
В целом качественный состав инфузионнойпрограммы должен определяться особенностямипациента: степенью гиповолемии, фазой синдро-ма диссеминированного внутрисосудистогосвёртывания (ДВС), наличием признаков син-дрома «капиллярной утечки», уровнем альбуми-на крови и тяжестью острого лёгочного повреж-дения (см. рис.).
Оптимальный уровень гемоглобина дляпациентов с сепсисом специально не исследова-ли. Между тем на них распространяют те же под-ходы, что и для большинства других критиче-ских состояний. К трансфузии эритроцитарноймассы прибегают при снижении уровня гемогло-бина менее 70 г/л, поддерживая его в диапазоне70–90 г/л. Более высокий уровень гемоглобинаможет понадобиться больным с ИБС, сердечнойнедостаточностью или лактат-ацидозом.
В отличие от рекомендаций РАСХИ, экспер-ты SSC считают, что трансфузия свежезаморо-женной плазмы показана не при лабораторныхпризнаках коагулопатии потребления (увеличе-
В помощь практическому врачу
43

Рис. Алгоритм ранней целенаправленной терапии [5]
ние МНО, АЧТВ, протромбинового времени), аисключительно при их сочетании с проявления-ми повышенной кровоточивости.
Предлагаемую ограничительную политикупо включению в схему терапии компонентовкрови следует признать весьма важной.Установлено, что введение свежезамороженнойплазмы является независимым фактором рискаразвития госпитальных инфекционных ослож-нений: бактериемии – относительный риск (ОР)= 3,4 и пневмонии (ОР = 5,4) [31]. Кроме того,известно, что сепсис и тяжёлые хирургическиевмешательства являются одними из главныхфакторов риска со стороны пациента для воз-никновения синдрома острого повреждения лёг-ких, связанного с трансфузией. Внедрение же вповседневную клиническую практику обозна-ченной стратегии позволило не только снизитьчастоту госпитальных инфекционных осложне-ний, но и риск развития неблагоприятного исхо-да – отношение шансов (ОШ) развития смертиОШ = 1,57 (1,21–1,87) [32].
Эмпирическая антибактериальная терапия(АБТ). Уже в первых клинических рекоменда-циях (SSC-2004 и РАСХИ-2004) подчёркиваласьнеобходимость как можно более раннего началаАБТ после установки диагноза. Между тем сте-
пень обоснования данного положения относи-лась к категории Е (мнение экспертов). В совре-менных рекомендательных документах позицияэкспертов не изменилась, но уровень обоснова-ния доказательств был повышен, в особенностидля пациентов с септическим шоком.
Усиление аргументации в пользу возможноболее ранней АБТ связано с публикацией ретро-спективного исследования канадской группы А. Kumar et al. [17]. В нём достаточно убедитель-но с использованием современной методологиистатистического анализа на базе данных, вклю-чающей 2 731 пациента, была доказана клиниче-ская значимость адекватной стартовой АБТ втечение первого часа после развития шока.
Оказалось, что риск развития неблагопри-ятного исхода при начале адекватной АБТ черездва часа увеличивался на 67%. Характерно, чтоэта тенденция сохранялась и далее: ОШ рискасмерти с каждым часом повышалось на 12% отпредыдущего, достигая к 36 ч значения в 95,5(44,9–190,5) по отношению к исходному. Ростлетальности наблюдался вне зависимости отэтиологии сепсиса и локализации первичногоочага. Отдельно для пациентов с тяжёлым сеп-сисом без шока таковых данных не появилось.Однако мы полагаем нецелесообразным прове-
Вестник анестезиологии и реаниматологии 2010. Т. 7, № 3
44

дение отдельного контролируемого исследова-ния для повышения рейтинга рекомендациихотя бы по этическим соображениям. Вполнелогично распространение данного положения ина всю популяцию пациентов с органно-систем-ной дисфункцией.
В этой связи оправдано использование и притяжёлом сепсисе препаратов широкого спектрадействия или комбинации нескольких антибио-тиков, перекрывающих в стартовом режимеспектр возможных возбудителей.
Схема АБТ должна подбираться исходя излокализации очага инфекции, места возникнове-
ния инфекционного процесса, уровня устойчи-вости к антибиотикам, анамнеза заболевания ииндивидуальных особенностей пациента. Крометого, при госпитальном сепсисе во вниманиедолжно быть принято наличие или отсутствиефакторов риска кандидемии и участия в инфек-ционном процессе бактерий с множественнойустойчивостью – MRSA, P. aeruginosa, энтеро-бактерий – продуцентов бета-лактамаз расши-ренного спектра.
В общем виде рекомендации по выборуэмпирической антимикробной терапии пред-ставлены в таблице.
Таблица Схемы эмпирической антимикробной терапии тяжёлого сепсиса и септического шока
Примечание: – при пневмониогенном сепсисе к цефтриаксону или цефепиму необходимо добавление макролида, а абдоминальном – мет-ронидазола;– при высокой распространённости грибков non Candida albicans – отдавать предпочтение каспофугину, вориконазолу, амфо-терицину В.
По мнению Н. Н. Климко, в качестве факторовриска системного кандидоза следует рассматри-вать сочетание следующих признаков:
– лихорадка неясной этиологии длитель-ностью более 4–6 сут;
– распространённая (от двух локализаций)колонизация Candida sp.;
– присутствие двух из перечисленных факто-ров – катетер в центральной вене, абдоминаль-ная хирургия, выраженный мукозит, полноепарентеральное питание, применение глюкокор-тикостероидов или иммуносупрессивной химио-терапии [1].
В последнее время предложены количествен-ные системы, рассчитывающие риск развитиясистемного кандидоза, позволяющие аргументи-ровать опережающее назначение противогрибко-вых препаратов.
Так, на высокий риск кандидемии у больных сгоспитальным сепсисом указывает комбинацияпризнаков: тяжёлый бактериальный сепсис,хирургическое вмешательство, несколько очаговколонизации Candida spp., полное парентеральноепитание. При наличии трёх факторов и более тре-буется проведение предупреждающей противо-грибковой терапии в силу повышения риска
системного кандидоза в 7,7 раза [21]. Выбор препа-рата для опережающей терапии будет определять-ся этиологией грибковых инфекций в конкретномотделении. При высокой распространённостигрибков non Candida albicans он должен склонять-ся в сторону каспофунгина или вориконазола.
Главными факторами риска сепсиса, связанно-го с MRSA, служат пожилой возраст пациента,предшествующие эпизоды колонизации, госпита-лизация более трёх недель, высокий уровень рас-пространённости в стационаре, наличие открытыхкожных ран или центрального венозного катетера,тяжёлая сопутствующая хроническая патология.Риск присоединения MRSA-инфекций увеличи-вается на фоне терапии ципрофлоксацином ицефалоспоринами первой генерации.
Следует подчеркнуть, что распространённостьразличных возбудителей госпитальных инфекцийи уровень их устойчивости к антибактериальнымпрепаратам может существенно отличаться вОРИТ различных стационаров даже одного горо-да, поэтому только при наличии локальных эпиде-миологических данных возможно повышениенадёжности эмпирической терапии.
Неуклонный рост устойчивости возбудителейсепсиса к антибиотикам и новые данные послужи-
В помощь практическому врачу
45

ли основанием для рекомендаций, направленныхна повышение рационального их использования.
Это касается, прежде всего, ограничений длякомбинированной АБТ после идентификациивозбудителя. Количество работ, указывающих наотсутствие реальных клинических преимуществкомбинации препаратов, увеличилось [27, 35]. Вкачестве возможных клинических ситуаций дляеё проведения рассматривается сепсис у больныхс нейтропенией или идентификации P. aeruginosa.Между тем, обоснованность такой тактики и дляэтих пациентов является минимальной, выражаяисключительно мнение экспертов.
Базисный комплекс интенсивной терапии(первые 24 ч)
Обсуждаемые направления интенсивной тера-пии второго этапа должны быть начаты в течение 24 ч после констатации клинической ситуации.Аргументацией для их реализации в течение обозна-ченного срока служат результаты проведённыхконтролируемых исследований, где начало включе-ния в протокол происходило не позже первых суток.
Глюкокортикостероиды. Результаты масштаб-ного многоцентрового исследования CORTICUS,не подтвердившие первоначальное заключение D. Annane et al. [6], снизили оптимизм специали-стов по поводу применения гидрокортизона. Внастоящее время эксперты SSC рекомендуют рас-сматривать возможность его назначения лишь прирефрактерном шоке в дозировке, не превышаю-щей 300 мг/сутки.
Между тем дизайн исследований CORTICUSи D. Annane нельзя признать идентичным: паци-енты во французском исследовании были заметнотяжелее по своему состоянию и раньше включа-лись в протокол – до 8 ч от развития шока против72 ч. Выше была и частота относительной надпо-чечниковой недостаточности – 77 против 47%[30]. Необходимо дальнейшее уточнение иобоснование показаний для его подключения вопределённый момент времени в конкретной кли-нической ситуации. При субпопуляционном ана-лизе своего исследования D. Annane продемон-стрировал, что наибольшее снижение летальностинаблюдалось в подгруппе пациентов с шоком всочетании с ОРДС и относительной надпочечни-ковой недостаточностью [6].
В этой связи, с нашей точки зрения, полезноориентироваться на клинические признаки отно-сительной надпочечниковой недостаточности. Оеё развитии при септическом шоке можно судитьв следующих ситуациях:
1) при потребности введения норадреналинав дозах более 0,2 мкг/(кг•мин-1) у лиц с СИ > 2,8л/(мин•м-2) при отсутствии ответа на объёмнуюнагрузку;
2) в случае необходимости увеличения дозвазопрессоров на 20% от исходного уровня;
3) при потребности во введении вазопрессо-ров длительностью более суток при условии пол-ноценной санации инфекционного очага и адек-ватной антибактериальной терапии [22].
Остаётся неясным, какой режим дозированиягидрокортизона (болюсный или инфузионный)предпочтительней, так же как и метод «отлуче-ния» от глюкокортикостероидов, – быстрая отме-на после разрешения шока или постепенное сни-жение дозы.
С позиций фармакокинетики гидрокортизонанаиболее обоснованным выглядит его инфузион-ный путь введения со скоростью 10 мг/ч посленагрузочной дозы в 100 мг.
Полагают, что пациентам без шокового син-дрома назначение гидрокортизона не показано,исключение могут составлять лица, принимаю-щие глюкокортикостероиды в связи с хрониче-ской сопутствующей патологией. Использованиедругих глюкокортикостероидов, таких как пред-низолон и дексаметазон, по-прежнему не рассмат-ривается в связи с отсутствием клинических дан-ных. Обращено внимание на то, что назначениедексаметазона может приводить к супрессиигипоталамо-гипофизарно-надпочечниковойсистемы [14].
Активированный протеин С. Взрослым паци-ентам с сепсисом и полиорганной недостаточ-ностью и индексом тяжести состояния АРАСНЕ-II > 25 баллов, относящимся к категории лиц свысоким риском смерти, при отсутствии противо-показаний рекомендуется рассмотреть возмож-ность введения активированного протеина С (зиг-рис). У больных с низким риском неблагопри-ятного исхода (монорганная дисфункция иAPACHE-II менее 20 баллов) зигрис не улучшаетрезультаты лечения и не должен назначаться [14].
Эффект препарата при тяжёлом полиорганномсиндроме и АРАСНЕ-II < 25 баллов не ясен.Проведённое в России пострегистрационное много-центровое когортное проспективное исследование сограниченным набором пациентов с пульмогенными абдоминальным сепсисом констатировало суще-ственное снижение летальности в сравнении с про-гнозируемой по шкалам оценки тяжести состояния[3]. В целом, аргументированных сомнений в отно-шении клинической эффективности препарата непоявилось, однако, принимая во внимание его край-не высокую стоимость, необходимо более строгоопределить показания к его назначению.
Протективная вентиляция лёгких. Задача респи-раторной поддержки при сепсисе с острым повреж-дением лёгких – не только компенсация гипоксии,но и ограничение воспалительной реакции. Дело втом, что повторяющееся перерастяжение лёгких приИВЛ большими объёмами сопровождается гипер-продукцией провоспалительных цитокинов (IL-6;IL-8; TNF) альвеолярными макрофагами [37]. В
Вестник анестезиологии и реаниматологии 2010. Т. 7, № 3
46

дальнейшем повреждающее действие ИВЛ напаренхиму лёгких в связи с освобождением гисто-гормонов может привести и к инициации и поддер-жанию системной воспалительной реакции из-за ихуклонения в системную циркуляцию.
Сочетание малых дыхательных объёмов и опти-мального положительного давления в конце выдохаза счёт щадящего влияния на паренхиму лёгкихполучило название «протективной вентиляции лёг-ких». Необходимо соблюдение следующих условий:пиковое давление в дыхательных путях ниже 35 смвод. ст., инспираторная фракция кислорода ниже60%, дыхательный объём меньше 6 мл/кг, неинвер-тированное соотношение вдоха к выдоху. Доказано,что эта стратегия приводит к уменьшению вентиля-тор-индуцированного повреждения лёгких: баро-травмы, волюмотравмы и биотравмы, уменьшениютранспульмонального давления и давления плато,отсутствию повышения цитокинов в плазме кровии способствует снижению летальности [7].
Контроль гликемии. Как и в предыдущих кли-нических рекомендациях 2004 г., в последнихдокументах SSC и РАСХИ у пациентов с повы-шенным содержанием глюкозы в крови предлага-ется осуществление строгого контроля гликемии сиспользованием внутривенного введения инсули-на. Сохранению тактики контроля гликемии усептических больных способствовали результатыметаанализа 35 исследований у пациентов в кри-тическом состоянии различной природы, проде-монстрировавшего возможность снижениялетальности на 15% [25].
Однако в связи с трудностью достижениякоридора 80–110 мг/дл (4,4–6,1 ммоль/л) и высо-кой вероятностью развития гипогликемии порогдля вмешательства был повышен до 150 мг/дл (8,3ммоль/л). При этом пациенты облигатно должныполучать внутривенно глюкозу как источниккалорий с контролем её содержания в крови через1–2 ч. Отказ от строгого поддержания нормогли-кемии связан, по крайней мере, с двумя обстоя-тельствами: во-первых, с демонстрацией достаточ-но высокого числа эпизодов гипогликемии иотсутствием доказательств клинической пользы инеобходимости отклонения от протокола в клини-ческих исследованиях, пытавшихся воспроизве-сти позитивные эффекты, полученные G.Van denBerghe et al. [38]; во-вторых, с отсутствием уровня«нормы» гликемии для критических состояний.
Из-за неприемлемо высокой частоты эпизодовгипогликемии были остановлены многоцентровоеисследование VISEP, проводимое в Германиипосле включения 537 больных с сепсисом, и евро-пейское GLUCONTROL, в которое вошло 1109человек [10, 12]. Более того, летальность у боль-ных, перенесших гипогликемию, в конечном итогебыла выше, то есть её последствия оказались болеевредны, чем умеренная гипергликемия [11, 18].
Таким образом, при проведении контроля гли-кемии следует отдавать отчёт в том, что отсутству-ет единое мнение в отношении её приемлемого диа-пазона, а использование интенсивной инсулиноте-рапии требует предварительного решения рядаорганизационных вопросов: обучения персонала иобеспечения адекватного лабораторного контроля.
Усложняет ситуацию и отсутствие единыхсогласованных протоколов ИИТ и сопутствую-щей нутритивной поддержки.
Рекомендательные протоколы, реальная клиническая практика и первые результатывнедрения
Разработанные клинические рекомендациисостоят из отдельных положений, целесообраз-ность использования которых обосновываютрезультаты контролируемых клинических иссле-дований различного уровня доказательности. Ужеизначально возникал вопрос «А будут ли улучше-ны результаты лечения при следовании клиниче-ским рекомендациям в реальной жизни?»Некоторые из рекомендательных положений про-токола, в частности касающиеся использованияалгоритма ранней целенаправленной оптимиза-ции гемодинамики, были подвергнуты серьёзнойкритике [26, 29].
Справедливо отмечалось, что гемодинамиче-ская ситуация при тяжёлом сепсисе более разно-образна, а для септического шока типичны высо-кие значения сатурации гемоглобина смешаннойвенозной крови. Высказывались сомнения и поповоду информационной ценности ЦВД какконечного ориентира, определяющего оптималь-ный объём инфузионной нагрузки.
В этой связи крайне важен анализ первыхрезультатов апробации клинических рекомендацийинтенсивной терапии сепсиса. Начиная с 2005 г.,целый ряд крупных клиник США, Европы иЮжной Америки приступили к внедрению их врутинную практику с проведением этапной про-спективной оценки клинических исходов. В итоге кнастоящему времени появились сведения, отражаю-щие влияние повышения приверженности к клини-ческим рекомендациям на результаты лечения паци-ентов с тяжёлым сепсисом и септическим шоком.
Первые из них исходили из отдельных клиники включали в разработку незначительное числопациентов. Так, L. Shu-Min et al. [3] отметили сни-жение летальности при септическом шоке в связи свнедрением протокола SSC (ранний этап – первые6 ч) c 67,2 до 50% (р = 0,009). Наряду с клиническойэффективностью, были продемонстрированы иэкономические преимущества протокола [24, 34].
М. Girardis et al., анализируя показатели рабо-ты крупного реанимационного центра Италии,также указали на повышение выживаемости боль-ных тяжёлым сепсисом с 32 до 73% при увеличе-нии частоты полного соблюдения протокола с 8 до
В помощь практическому врачу
47

35% [15]. В нашем проспективном контролируе-мом исследовании, в которое включено 42 пациен-та с внебольничной пневмонией, осложнённойшоком при выполнении всех компонентов прото-кола, за исключением зигриса, зарегистрированоснижение частоты неблагоприятных исходов с66,7 до 28,6% (р = 0,03) [2].
В 2008 г. были представлены результатыиспанской рабочей группы, охватывавшие 59ОРИТ в дизайне «до и после». Согласно получен-ным данным, даже при довольно низкой компла-ентности (соответствия рекомендациям) в 15,7%имело место снижение летальности с 44,0 до 39,7%(р = 0,04) [16].
Наиболее крупный материал, основанный наанализе работы 165 ОРИТ (15 022 пациента стяжёлым сепсисом и септическим шоком)Европы, США и Южной Америки, был опублико-ван в начале 2010 г. [20].
Авторами публикации явились разработчикидокумента Surviving Sepsis Campaign, поставившиецелью определение клинического эффекта отиспользования ключевых рекомендательныхположений. Для её реализации было выполненосравнение ситуации с приверженностью к клини-ческим рекомендациям и летальностью на протя-жении трёх лет (2005–2008 гг.). В итоге установле-но, что увеличение частоты соблюдения положе-ний базисного протокола интенсивной терапии с10,3 до 31,3% (первые 6 ч) и с 18,1 до 36,1% (первые24 ч) позволило снизить суммарную летальность с37,0 до 30,8% (р = 0,008). На снижение летальностивлияли адекватная ранняя АБТ с предваритель-ным исследованием крови на стерильность – ОШ= 0,7 (0,7–0,83); протективная вентиляция лёгких– ОШ = 0,7 (0,67–0,78); контроль гликемии – 0,67(0,62–0,71). Между тем, исходя из дизайна иссле-
дования, эксперты считают, что выносить заключе-ние о неэффективности других элементов КР ещёпока преждевременно.
Заключение
Для повышения качества оказания помощибольным с тяжёлым сепсисом и септическимшоком следует стремиться к соблюдению ключе-вых положений базисного комплекса интенсив-ной терапии. Набор его составляющих опреде-ляется особенностями течения патологическогопроцесса и возможностями конкретного лечебно-го учреждения. Ранняя адекватная антибактери-альная терапия представляется одним из важней-ших и реально достижимых элементов. В основеалгоритма оптимизации кровообращения и кис-лородного транспорта должен лежать исходныйгемодинамический фон пациента. При необходи-мости протезирования функции дыхания необхо-димо придерживаться концепции протективнойИВЛ. Проведение интенсивной инсулинотерапиив случае развития стрессорной гипергликемиитребует предварительного решения организа-ционных вопросов, однако единое мнение в отно-шении её приемлемого диапазона отсутствует.Адъювантная терапия сепсиса нуждается вотдельном обсуждении.
ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ:
Руднов Владимир АлександровичУральская государственная медицинская академия,г. Екатеринбург,доктор медицинских наук, профессор, заведующийкафедрой анестезиологии и реаниматологии.E-mail: [email protected].
1.Климко Н. Н. Диагностика и лечение оппортунистическихмикозов. – СПб., 2008. - 304с.
2.Руднов В. А., Фесенко А. А., Дрозд А. В., Носков И. Ю.Интенсивная терапия пневмонии, осложнённой сепси-сом: роль современных рекомендательных протоколов// Урал. мед. ж. – 2008. – № 7. – С. 53-59.
3. Руднов В. А., Гельфанд Б. Р., Алфёров А. В. и др.Применение активированного протеина С при тяжёломсепсисе и септическом шоке – опыт российских клиник// Consilium Medicum. – 2004. – № 6. С. 424-427.
4.Сепсис в начале XXI в. Классификация, клинико-диагно-стическая концепция и лечение. Патолого-анатомиче-ская диагностика: Практическое руководство. – М. :Издательство НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН. –2004. - 130 с.
5. Сепсис: классификация, клинико-диагностическая кон-цепция и лечение : практическое руководство / Подред. В. С. Савельева, Б. Р. Гельфанда. 2-е изд., доп. и
перер. – М.: ООО «Медицинское информационноеагенство», 2010. – 392 с.
6. Annane D., Sebille V., Charpentier C. et al. Effect of treatmentwith low doses of hydrocortisone and fludrocortisone onmortality in patients with septic shock // JAMA. – 2002.– Vol. 288. – Р. 862-871.
7. ARDS Network. Ventilation with lower tidal volumes as com-pared with traditional tidal volumes for acute lung injuryand ARDS // NEJM. – 2000. – Vol. 342. – Р. 1301-1308.
8.Bernard G., Vincent J. L., Laterre P. F. et al. The recombinanthuman activated protein C worldwide evaluation insevere sepsis(PROWESS)study group. Efficacy and safe-ty of recombinant human activated protein C for severesepsis // N. Engl. J. Med. – 2001. – Vol. 344. – Р. 699-709.
9.Brunkhorst F., Reinhart K. Suppottive und adjunctive thera-pie for sepsis // Internist. – 2009. – Vol. 50. – Р. 817-827.
10.Brunkhorst F., Engel C., Bloos F. et al. intensive insulin ther-
Литература
Вестник анестезиологии и реаниматологии 2010. Т. 7, № 3
48

apy and pentastarch resuscitation in severe sepsis //NEJM. – 2008. – Vol. 358. – Р. 125-139.
11.Cryer P. Mechanisms of sympathoadrenal failure and hypo-glycaemia in diabetes // J. Clin. Invest. – 2006. – Vol. 116.– Р. 1470-1473.
12. Devos P., Preiser J. C. On behalf of the GLUCONTROLSteering Committee. Current practice of glycaemia con-trol in European ICU // Intens. Care Med. – 2005. – Vol.31. – Р. 130.
13. Dellinger R. P., Carlet J.,Masur H. et al. Survivыing SepsisCampaign guidelines for of severe sepsis and septic shock// Crit. Care Med. – 2004. – Vol. 32. – Р. 858-873.
14. Dellinger R. P., Levy M. M., Carlet J. et al. Surviving SepsisCampaign: international guidelines for management ofsevere sepsis and septic shock: 2008 // Crit. Care Med. –2008. – Vol. 36. – Р. 296-327.
15.Girardis M., Rinaldi L., Donno L. et al. Effects on manage-ment and outcome of severe sepsis and septic shockpatients admitted to the intensive care unit after imple-mentation of sepsis program: a pilot study // CriticalCare. – 2009. – Vol. 13. – Р. R143.
16. Ferrer R., Artigas A., Levy M. et al. Improvement in processof care and outcome after a multicenter severe sepsis edu-cational program in Spain // JAMA. – 2008. – Vol. 299,№ 19. – Р. 2294-2303.
17. Kumar A., Roberts D., Wood K. Duration of hypotensionprior to initiation of effective antimicrobial therapy is crit-ical determinant of survival in septic shock // Crit. CareMed. – 2006. – Vol. 34. – Р. 1589-1596.
18.Krinsley J., Grover A. Sever hypoglycaemia in critically illpatients: risk factors and outcome // Crit. Care Med. –2007. – Vol. 35. – Р. 2262-2267.
19.Levy M., Pronovost P. J.,Dellinger R. P. et al. Sepsis changebundles: converting guidelines into meaningful changeinbehavior and clinical outcome // Crit. Care Med. – 2004.– Vol. 32 (Suppl). Р. 595-597.
20. Levi M., Dellinger R., Townsend S. et al.,The SSC: results ofan international guideline-based performance improve-ment program targeting severe sepsis // ICM. – 2010. –Vol. 36. – Р. 222-231.
21.Leon C., Ruiz-Santana S., Saavedro P. Et al. A bedside scor-ing system (“Canduda score”) for early antifugal treat-ment in nonneutropenic critically ill patients withCandida colonization // Crit. Care Med. – 2006. – Vol. 34. – Р. 730-737.
22. Marik P., Pastores S., Annane J. et al. Recommandation forthe diagnosis and of corticosteroid insufficiency in criti-cally ill adult patients // Crit. Care Med. – 2008. – Vol. 36. – Р.1937-1949.
23.The National Heart, Lung and blood institute ARDS clinicaltrials network. Pulmonary – artery versus central venouscatheter to guide treatment of acute lung injury // N.Engl. J. Med. – 2006. – Vol. 354. – Р. 2213-2224.
24. Nguyen H., Corbett S., Steele R. et al. Implementation of abundle of quality indicators for the early management ofsevere sepsis and septic shock is associated with decreasedmortality // Crit. Care Med. – 2007. – Vol. 35. – Р. 1005-1101.
25. Pittas A.G., Siegel R.D., Lau J. et al. Insulin therapy for crit-ically ill hospitalized patients // Arh. Int. Med. – 2004.Vol. 164. – Р. 2005-2001.
26.Perel A. Bench-to- bedside review: The initial hemodynamicresuscitation of the patient according Surviving SepsisCampaign guidelines– does one size fit all? // Crit. Care.– 2008. – Vol. 12. – Р. 223.
27. Paul M., Silbiger I., Grozinsky S. Betalactam antibioticmonotherapy versus betalactam-aminoglycoside antobi-otic combination therapy for sepsis // Cochrane databaseSyst. Rev. – 2006. – (1):CD003344.
28. Rivers E., Nguen B., Havslad S. et al. Early goal-directedtherapy in treatment of severe sepsis and septic shock //N. Engl. J. Med. – 2001. – Vol. 345. – Р. 1368-1377.
29. Roche A., Miller T. Goal-directed or goal-misdirected – howshould we interpret the literature? // Crit. Care. – 2010.Vol. 14. – Р. 129.
30. Sprung C., Annane D., Brigel J. еt al. Corticosteroid therapyfor septic shock // Am. Rev. Repir. Crit. Care Med. –2007. – Vol. 175. – Р. A507.
31. Sarani B., Dunkman J., Sonnel D. Transfusion of fresh frozenplasma in critically ill surgical patients is associated withan increased risk of infection // Crit. Care Med. – 2006.– Vol. 34, № 12(S). – Р. A77.
32. Sprung C. L., Bernard G. R., Dellinger R. P. (eds). Gudelinesfor management of severe sepsis and septic shock //Intens. Care Med. – 2001. – Vol. 27. – Р.1-134.
33.Sperry J., Frankel H., Shefi S. et al. Restrictive transfusion trig-ger: the magnitude of cost-effectiveness using Markov mod-eling // Crit. Care Med. –2006. – Vol. 34, № 12(S). – Р. A72.
34. Shorr A., Micek S., JacksonW. et al. Economic implicationsof an evidence-based sepsis protocol: can you improve out-comes and lower cost // Crit. Care Med. – 2006. – Vol. 34.– Р. 1257-1262.
35. Safdar N., Handelsman J., Maki D. et al. Does combinationantimicrobial therapy reduce mortality in gram-negativebacteraemia? A meta-analysis // Lancet Infect. Dis. –2004. – Vol. 4. – Р. 519-527.
36.Shu-Min L., Chiend-Da H., Horey-Chyan L. et al. A modifiedgoal-directed Protocol improve clinical outcomes in ICUpatients with septic shock: a randomized controlled trial// Shock. – 2006. – Vol. 26, № 6. – Р. 551-557.
37.Tremblay R., Slutsky A. ventilator-induced injury: frombarotraumas to biotrauma // Proc. Assoc. Am. Physicians.– 1998. – Vol. 110. – Р. 482-488.
38.Van den Berghe G., Wouters P.J., Weekers F. et al.: Intensiveinsulin therapy in critically ill patients // N. Engl. J. Med.– 2001. – Vol. 345. – Р. 1359-1367.
В помощь практическому врачу
49

КЛАССИФИКАЦИЯ, КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА ИНФАРКТА МИОКАРДАА. М. Шилов1, М. В. Мельник1, А. О. Осия1, М. Г. Селезнёва2
MYOCARDIAL INFARCTION: CLASSIFICATION, CLINICAL PICTURE, AND DIAGNOSISA. M. Shilov1, M. V. Melnik1, A. O. Osiya1, M. G. Selezneva2
Клиника внутренних болезней ФППОВ ММА им. И. М. Сеченова1,Городская клиническая больница № 33 им. проф. А. А. Остроумова2, г. Москва
В статье представлена современная классификация острого коронарного синдрома и инфаркта миокар-да. Подробно изложены механизмы развития некроза сердечной мышцы и диагностика локализации ише-мической патологии по данным ЭКГ, а также отражена динамика кардиоспецифических ферментов сыво-ротки крови в зависимости от сроков развития инфаркта миокарда и объёма поражения.
Ключевые слова: инфаркт миокарда, острый коронарный синдром, тропонин, миоглобин.
The paper presents the current classification of acute coronary syndrome and myocardial infarction. It detailsthe mechanisms of development of myocardial necrosis and the ECG diagnosis of the location of ischemic patholo-gy and shows the time course of changes in the serum levels of cardiospecific enzymes depending on the time of devel-opment of myocardial infarction and the extent of the lesion.
Key words: myocardial infarction, acute coronary syndrome, troponin, myoglobin.
Инфаркт миокарда (ИМ) – ишемический некрозсердечной мышцы. В 2005 г. эксперты рабочей груп-пы Британского Кардиологического Общества пред-ложили новую классификацию острых коронарныхсиндромов (ОКС): 1) ОКС с нестабильной стенокар-дией (биохимические маркёры некроза не опреде-ляются); 2) ОКС с некрозом миокарда (концентра-ция тропонина Т ниже 1,0 нг/мл или концентрациятропонина I (тест «АссuТnI») ниже 0,5 нг/мл; 3) ОКС с клиническими признаками ИМ с концент-рацией тропонина Т > 1,0 нг/мл или концентрациейтропонина I (тест «АссuТnI») > 0,5 нг/мл.
Существует несколько классификаций ИМ взависимости от исходных изменений ЭКГ, лока-лизации очага некроза сердечной мышцы или сучётом времени развития патологии [1–5].
В зависимости от сроков появления и характе-ра течения патологии выделяют первичный ИМ,рецидивирующий (повторные некрозы в течениемесяца от начала первого эпизода) и повторный –через месяц после развития первого ИМ.
В зависимости от исходных изменений на ЭКГинфаркт может быть: а) без подъёма сегмента ST,б) с подъёмом сегмента ST без патологическогозубца Q, в) с подъёмом сегмента ST c патологиче-ским зубцом Q.
В зависимости от обширности очага некрозавыделяют мелкоочаговый, крупноочаговый, транс-муральный, циркулярный (субэндокардиальный)ИМ, а с учётом локализации – ИМ передней, боко-вой, задней или нижней стенки левого желудочка(диафрагмальный), а также ИМ правого желудочка.
Диагностические критерии ИМ: 1) наличиетипичных стенокардических болей за грудиной(«боли ишемического типа»), которые продол-
жаются более 30 мин; 2) типичные измененияЭКГ; 3) увеличение концентрации в крови маркё-ров повреждения миоцитов (миоглобин; тропо-нин – ТнI, ТнТ; КФК-MB-фракция; трансаминазы– АСТ/АЛТ; лактатдегидрогеназа).
Для постановки диагноза «достоверный» ИМнеобходимо наличие двух из трёх перечисленныхвыше критериев.
Клиническая картина. Классические клиниче-ские признаки ОИМ были описаны J. B. Herrick в1912 г.: «…сжимающая боль в области грудной клет-ки с локализацией за грудиной, часто сочетающая-ся с распространением в шею, руку или спину(межлопаточную область) длительностью более 30минут, для купирования которой требовался приёмопиатов. Боль нередко сочеталась с затруднённымдыханием, тошнотой, рвотой, предобморочнымсостоянием и ощущениями угрожающей гибели.Однако эти клинические признаки в некоторыхслучаях могут отсутствовать или модифицировать-ся, а чувство тревоги предшествовать появлениюзагрудинных болей (продормальные симптомы)…»
Клиническая картина ИМ разнообразна. По нали-чию симптомов и характера жалоб выделяют следую-щие клинические варианты начала заболевания.
Ангинальный вариант – типичная интенсив-ная давящая боль за грудиной, продолжающаясяболее 30 мин и не купирующаяся приёмом орга-нических нитратов таблетированных или аэро-зольных форм. Боль довольно часто иррадиируетв левую половину грудной клетки, нижнюючелюсть, левую руку или спину, сопровождаетсячувством тревоги, страхом смерти, слабостью,обильным потоотделением. Данный симптомо-комплекс имеет место в 75–90% наблюдений.
Вестник анестезиологии и реаниматологии 2010. Т. 7, № 3
50

Астматический вариант – ишемическое пора-жение сердца манифестируется одышкой, затруд-нённым дыханием, сердцебиением. Болевой ком-понент отсутствует или мало выражен. Однакопри тщательном опросе пациента можно выявить,что боль предшествовала развитию одышки.Частота данного клинического варианта ИМ реги-стрируется в 10% среди пациентов старшей воз-растной группы и при повторных ИМ.
Гастралгический (абдоминальный) вариант –боль локализуется в областях верхней половиныживота, мечевидного отростка, часто иррадиируетв межлопаточное пространство, и, как правило,сочетается с диспептическими расстройствами(икота, отрыжка, тошнота, рвота), симптомамидинамической непроходимости кишечника (взду-тие живота, ослабленные шумы перестальтики).Гастралгический вариант чаще всего встречаетсяпри нижнем ИМ и не превышает 5% всех случаевкардиальной катастрофы.
Аритмический вариант – основными жалобамиявляются чувство «замирания», перебои в работесердца, сердцебиения, которые сопровождаютсяразвитием резкой слабости, синкопальных состоя-ний или других невротических симптомов вслед-ствие ухудшения мозгового кровообращения нафоне сниженного АД. Боль отсутствует или не при-влекает внимание больного. Частота аритмическо-го варианта колеблется в пределах 1–5% случаев.
Цереброваскулярный вариант – головокруже-ние, дезориентация, обмороки, тошнота и рвотацентрального генеза, вызванные снижением пер-фузии головного мозга. Причиной ухудшения моз-гового кровообращения является нарушение
насосной функции сердца со снижением минутно-го объёма крови на фоне тахиаритмии (пароксиз-мы тахиаритмий) или передозировка нитратами.Частота развития цереброваскулярного вариантаИМ увеличивается с возрастом пациентов и колеб-лется от 5 до 10% от общего числа заболевания.
Малосимптомный вариант – обнаружение ИМпри ЭКГ -исследовании, однако при ретроспектив-ном анализе анамнеза заболевания в 70–90% слу-чаев пациенты указывают на предшествующуюнемотивированную слабость, ухудшение настрое-ния, появление дискомфорта в грудной клетке илиучащение приступов стенокардии, сопровождаю-щихся одышкой, перебоями в сердце. Подобныйклинический вариант ИМ чаще всего встречаетсяв старших возрастных группах с сопутствующимсахарным диабетом 2-го типа – от 0,5 до 20%.
Электрокардиографические изменения приИМ. Стандартная электрокардиография (12 отве-дений) является одним из основных методов, позво-ляющих уточнить диагноз ИМ, его локализацию иобширность поражения сердечной мышцы, наличиеосложнений – характер нарушения ритма сердеч-ной деятельности и проводимости. Характернымипризнаками ИМ при регистрации ЭКГ являютсяналичие патологического зубца Q (ширина – 0,04 с,глубина превышает 25% амплитуды зубца R), сни-жение вольтажа зубца R – зона некроза; смещениесегмента ST выше или ниже изолинии на 2 мм(подъём ST сегмента – субэпикардиальный слой,снижение ST сегмента – субэндокардиальныйслой) – зона ишемического повреждения; появле-ние остроконечных, положительных или отрица-тельных «коронарных» зубцов Т – ишемия (рис. 1).
В помощь практическому врачу
51
Рис. 1. ЭКГ- диагностика локализации и характера поражения миокарда
В настоящее время в зависимости от наличияили отсутствия патологического зубца Q на ЭКГвыделяют «Q-образующий» (крупноочаговыйили трансмуральный) и «Q-необразующий» (суб-эндокардиальный, субэпикардиальный, интраму-
ральный) ИМ. Подобные изменения на ЭКГ соот-ветствуют наличию нестабильной атеросклероти-ческой бляшки и развитию тромба на поверхноститравмируемой бляшки с частичной или полнойокклюзией коронарной артерии (рис. 2).

Рис. 2. Динамика формирования острого коронарного синдрома
Для «Q-образующего» ИМ на ЭКГ регистри-руются характерные изменения: а) появление пато-логических Q-зубцов или комплекса QS (некрозсердечной мышцы); б) уменьшение амплитудызубца R; в) подъём (элевация) или снижение(депрессия) сегментов ST, соответствующих обла-сти (соответственно субэпикардиальный или суб-эндокардиальный слои) ишемического поврежде-ния; г) двухфазность или инверсия зубца T; д) воз-можно появление блокады левой ножки пучка Гиса.
Для «Q-необразующего» ИМ характерны сле-дующие изменения на ЭКГ: а) смещение сегментовST от изолинии: элевация – субэпикардиальныйслой, депрессия – субэндокардиальный слой; б)уменьшение амплитуды зубца R; в) двухфазностьили инверсия зубца T; г) отсутствие Q-зубца.
Безусловно, большое значение в ЭКГ-диагно-стике ИМ имеет возможность сопоставления спредшествующей предынфарктному периоду ЭКГи суточный мониторинг.
С практической точки зрения, наиболее ран-ними признаками развития ИМ являются смеще-ния сегмента ST от изолинии на 2 мм и более,которые обычно предшествуют появлению зубцаQ, и могут регистрироваться через 15–20 мин отначала болевого синдрома.
Для ИМ характерной является динамика изме-нений ЭКГ в зависимости от сроков его развития иэтапов репаративных процессов в зоне некроза.
Смещения сегментов ST регистрируются наЭКГ в первые часы заболевания и могут сохра-няться до 3–5 сут с последующим возвращением кизолинии и формированием глубокого отрица-тельного или двухфазного зубца T. При обширныхИМ смещение сегмента ST может сохраняться в
течение нескольких недель. Длительная элевациясегмента ST с QS-зубцом («застывшая ЭКГ»)может отражать эпистенокардитический перикар-дит трансмурального ИМ, а при одновременномналичии R aVR (признак Гольдбергера) являетсяпризнаком формирующейся аневризмы сердца.
После 3–4 ч от начала ишемической атаки наЭКГ регистрируется Q-зубец (некроз миокарда) вотведениях со смещённым ST-сегментом.Одновременно в противоположных отведенияхрегистрируется реципрокное (дискордантное) сни-жение ST-сегмента, которое свидетельствует об ост-роте патологического процесса.
Зубец Q – стойкий признак некроза сердечноймышцы или постинфарктного рубца, однако внекоторых случаях он может уменьшиться илиисчезнуть (через несколько лет) – в случаях ком-пенсаторной гипертрофии волокон миокарда,окружающих очаг некроза или рубца.
Для ИМ характерно формирование глубокого,отрицательного, симметричного Т-зубца («коро-нарного») на 3–5-е сутки заболевания в ЭКГ отве-дениях, соответствующих месту ишемическогоповреждения миокарда, с параллельным возвраще-нием к изолинии сегмента ST. Сформировавшийсяотрицательный Т-зубец может сохранятьсянесколько месяцев, однако в последующем он ста-новится положительным у большинства пациен-тов, что свидетельствует о его диагностическомпризнаке ишемии, а не повреждения.
Для топической диагностики ИМ информа-тивной является регистрация ЭКГ в 12 стандарт-ных отведениях: I, II, III, aVR, aVL, aVF и V1-6.Почти всегда в некротический процесс при ише-мии миокарда вовлекаются одновременно смеж-
Вестник анестезиологии и реаниматологии 2010. Т. 7, № 3
52

ные области левого желудочка, поэтому ЭКГ-изменения, характерные для ИМ, наблюдаются внескольких отведениях, соответствующих различ-ным областям сердца. В частности:
– передний ИМ – изменения в I, aVL, V1-3 отве-дениях ЭКГ;
– нижний (диафрагмальный) ИМ – измененияв III, aVF отведениях ЭКГ;
– верхушечно-боковой ИМ – изменения в II,aVL, V4-6 отведениях ЭКГ;
– переднеперегородочный ИМ – изменения вI,aVL, V1-4 отведениях ЭКГ;
– нижнебоковой ИМ – изменения в II, III, aVL,aVF, V5,6 отведениях ЭКГ;
– переднеперегородочно-верхушечный ИМ –изменения в I, aVL, V1-4 отведениях ЭКГ.
– задний ИМ – появление зубца r,R в V1-2, сме-щение переходной зоны из V3,4 в V2,3, реципрок-
ное снижение сегмента ST в V1-3 отведениях.Определённые диагностические трудности
возникают в оценке 12 стандартных отведенийЭКГ при заднебазальном ИМ. Для данной лока-лизации характерно появление лишь реципрок-ных изменений: появление зубцов r,R в V1,2 отве-дениях, депрессия сегмента ST в отведениях I, V1-3 и снижение амплитуды зубца R в отведенияхV5,6 (рис. 3). Дополнительную информацию олокализации заднего ИМ можно получить прирегистрации отведений V7-9 (со стороны спины),в которых можно обнаружить патологическиезубцы Q и характерную динамику ST-сегмента изубца Т. Следует помнить, что и у здоровыхлюдей может регистрироваться достаточно глубо-кий Q-зубец (до1/3 амплитуды R-зубца).Патологическим Q-зубцом в отведениях V7-9 счи-тается его продолжительность > 0,03 с.
Рис. 3. ЭКГ дифференциальная диагностика заднего и нижнего ОИМ
В помощь практическому врачу
53
Регистрация дополнительных отведений вV4-6 на два ребра выше (2–3-е межреберье слеваот грудины) необходима при подозрении навысокий переднебоковой локализации ИМ,когда изменения на стандартной ЭКГ выявляют-
ся только в отведении aVL.По характеру изменений в отведениях ЭКГ
можно косвенно судить о месте поражения коро-нарных артерий (см. табл.).
Наиболее тяжёлый тип ИМ возникает при оста-
Таблица Область ИМ в зависимости от локализации окклюзии коронарных артерий
Примечание: ЛКА и ПКА – соответственно левая и правая коронарная артерии.

Рис. 5. Критический стеноз в проксимальном отделе передней нисходящей коронарной артерии с формированием передне-перегородочного верхушечного ИМ
При окклюзии передней межжелудочковой арте-рии ниже места отхождения диагональной веткиформируется передненижний ИМ с распространени-ем на верхушку и боковую стенку левого желудочка,что манифестируется на ЭКГ смещением сегмента в
I, aVL и V4-6 отведениях. ИМ данной локализацииимеет менее тяжёлую клиническую картину. К этомутипу ИМ могут быть отнесены варианты, имеющиенебольшую площадь поражения и возникающие врезультате окклюзии одной из диагональных ветвей
Рис. 4. Критический стеноз проксимального отдела (до отхождения септальной ветви) передней межжелудочковой коронарнойартерии с формированием переднеперегородочного ИМ с распространением на верхушку и боковую стенку левого желудочка
новке кровотока в проксимальном отделе переднеймежжелудочковой артерии до отхождения первойсептальной ветви. Такая локализация окклюзии ипрекращение кровоснабжения большой зоны сер-дечной мышцы имеют определяющее значение вснижении сердечного выброса. При такой локали-зации ишемического поражения миокарда на ЭКГрегистрируются подъёмы сегмента ST во всех пре-кардиальных отведениях – V1-6, в I стандартномотведении и аVL (рис. 4). Локализация окклюзии в
проксимальном отделе коронарной артерии сопро-вождается нарушением кровоснабжения проводя-щей системы сердца с нарушением проведения воз-буждения: характерно развитие левого переднегополублока; блокады левой или правой ножек пучкаГиса; возможно появление атриовентрикулярнойблокады различной степени, вплоть до полной бло-кады средней части пучка Гиса – блокада Мобитц II(блокада Мобитц I – полная блокада на уровне А –V-соединения).
Вестник анестезиологии и реаниматологии 2010. Т. 7, № 3
54
Прекращение кровотока в проксимальномотделе межжелудочковой артерии ниже местаотхождения первой септальной ветви сопровож-дается развитием ИМ в переднесреднем отделестенки левого желудочка с регистрацией подъё-ма сегмента ST в V3-5 и I стандартном отведении
без нарушений проведения возбуждения в про-водящей системе сердца (рис. 5). Передний ИМчасто сопровождается гиперкинетическимтипом гемодинамики – тахикардия с повышени-ем АД (рефлекторное повышение симпатикото-нии).

Рис. 6. ЭКГ признаки переднебокового ИМ с распространением на нижнюю стенку ЛЖ при стенозе ствола левой коронар-ной артерии
Правая коронарная артерия кровоснабжаетнижнезаднюю, боковую стенки правого желудочкаи заднеперегородочную стенку левого желудочка.Окклюзии правой и/или задней огибающей левойкоронарных артерий сопровождаются поражениемвышеуказанных областей, нередко с развитиемИМ правого желудочка. На ЭКГ регистрируетсяпоявление r,R зубцов в V1-3 с реципрокным сниже-
нием ST-сегментов в этих же отведениях, со сме-щением переходной зоны от V3,4 в V 1,2 (рис. 7). Опоражении миокарда правого желудочка будетсвидетельствовать наличие патологического Q-зубца в дополнительных отведениях VR1-3 (сим-метричные левым грудным отведениям). ЗаднийИМ часто осложняется развитием различной сте-пени атриовентрикулярной блокады.
В помощь практическому врачу
55
левой коронарной артерии, что ведёт к поражениюбоковых отделов левого желудочка. На ЭКГ при этом
варианте ИМ регистрируются смещения ST-сегмен-та в отведениях II, aVL и V5,6 (рис. 6).
Рис. 7. Критический стеноз медиальной части правой коронарной артерии до отхождения ветви тупого края с формирова-нием задненижнего ИМ: на ЭКГ – QШ, aVF, подъем ST-сегмента III, аVF, реципрокное снижение ST-сегмента в отведенияхV1,2 со смещением переходной зоны в V2
Задненижний ИМ обычно сопровождается раз-витием ваготонии, проявляющейся брадикардией игипотензией (гипотонический тип гемодинамики),которую можно устранить внутривенным введе-нием 0,3–0,5 мг атропина.
Таким образом, регистрация ЭКГ (особеннов динамике) позволяет поставить диагноз ИМ,определить его локализацию, характер и уро-вень возникновения нарушений проводимости,ритма сердечной деятельности, осложняющихего течение.
Следует помнить, что вышеописанные измене-ния на ЭКГ могут иметь место и при другой пато-логии: острый перикардит, миокардиты, остроелёгочное сердце (массивная ТЭЛА), синдром ран-ней реполяризации, гипертрофия миокарда левогожелудочка, ишемический или геморрагическиймозговой инсульт, электролитные и эндокринныенарушения т. д. Инфарктоподобные изменения Q-зубца или патологического комплекса QRS на ЭКГчасто регистрируются при синдромах преждевре-менного возбуждения желудочков (WPW, CLC),

при расслаивающей аневризме восходящего отделааорты, хронических пневмониях и бронхиальнойастме, тяжёлых интоксикациях различного генеза.
Ферментная диагностика ИМ. Согласно реко-мендациям ВОЗ, при диагностике ОИМ, наряду склиническими признаками и изменениями ЭКГ,большое значение имеют исследования кардиоспе-цифических маркёров. В настоящее время извест-но много маркёров гибели кардиомиоцитов, имею-щих различную степень специфичности к мышцесердца, которые позволяют оценить объём, срокиразвития некроза и характер течения заболевания.
Диагностическая ценность лабораторной диаг-ностики ИМ существенно возрастает при безболе-вых формах и при повторных ИМ, мерцательнойаритмии, наличии имплантированного артифици-ального водителя ритма сердца (ЭКС), т. е. вситуациях, когда ЭКГ-диагностика ИМ затрудни-тельна.
В настоящее время в клинической практикенаиболее часто используют определение кон-центраций следующих специфических маркёровпоражения кардиомиоцитов: миоглобин (Мг),кардиотропонины (ТнI, ТнТ), креатин-фосфоки-наза (КФК), аспартатаминотрансфераза (АСТ),лактатдегидрогеназа (ЛДГ), гликогенфосфори-лаза (ГФ).
Специфичными для поражения только кар-диомиоцитов (но не миоцитов скелетных мышц)являются миоглобин, изоферменты – КФК-МВ-фракция, кардиотропонин – ТнI, гликогенфосфо-рилаза – ГФ-ВВ.
Начиная с 90-х годов ХХ в., появились техниче-ские возможности для определения и клиническогоиспользования в диагностике ИМ двух внутрикле-точных структурных белков кардиомиоцитов, сви-детельствующих о гибели миокарда, – миоглобина итропонина. Наиболее ранним и чувствительным кповреждению кардиомиоцитов является миогло-бин. Мг – структурный белок миоцита, при пораже-нии сердечной мышцы определяется в сывороткекрови радиоиммунным методом. Миоглобиновыйтест обладает высокой чувствительностью и специ-фичностью, превышающей параметры миокардспе-цифичных цитозольных изоинзимов. Увеличениеконцентрации Мг в сыворотке крови начинаетсячерез 1–3 ч от начала болевого синдрома, достигаетмаксимума к 6–7 ч заболевания и, при неосложнён-ном течении ИМ, возвращается к норме к концупервых суток патологического процесса [1, 3-6].
Второй структурный белок кардиомиоцитов –тропонин, участвующий в регуляции функции мио-цита сокращения-расслабления, входит в составтропомиозин-тропонинового комплекса, состоит изтрёх полипептидов (ТнС, ТнI и ТнТ). ТнТ имеет 3изоформы: 2 скелетно-мышечные – ТнТ2,3 и 1 мио-кардиальную ТнТ1. Сердечный ТнI локализуетсятолько в миокарде и выделяется при некрозе кар-
диомиоцитов. Сердечный тропонин ТнТ такжеиспользуется как маркёр некроза миокарда, но егосодержание может повышаться и при повреждениискелетной мускулатуры. Значения концентрацийТнТ и ТнI начинают превышать нормальные уров-ни через 5–12 ч от начала ишемии, достигают пикак концу первого дня (через 24 ч) – ТнI и к концувторого дня (48 ч) – ТнТ развития ИМ.Нормализация показателей этих кардиоспецифиче-ских маркёров заканчивается через 5–10 дней.
Энзимная диагностика ИМ является не толькометодом, дополняющим клинические признаки, нои самостоятельным критерием при принятиирешения о тромболитической терапии, инвазив-ной реваскуляризации миокарда в первые часыразвития окклюзии атеротромбозом коронарнойартерии при ЭКГ-негативных формах ИМ.
В клинической практике при диагностике ИМшироко используют определение концентрации всыворотке крови органоспецифичного цитозольно-го энзима креатинфосфокиназы – КФК. У человекаКФК состоит из двух субъединиц (М и В), которыеобразуют 3 формы изоферментов: ММ – мышечныйтип, ВВ – мозговой тип, МВ – сердечный тип(КФКобщ = ΣКФК-МВ + КФК-ММ + КФК-ВВ).Активность КФК-МВ-фракции при ИМ начинаетувеличиваться через 6 ч, достигает максимума через24 ч от начала заболевания и возвращается к норме кконцу вторых суток развития ИМ. Диагностическизначимым повышением активности КФК-МВ-фракции является превышение нормы, принятой вданной лаборатории, в 1,5–2 раза. Традиционнорекомендуется определение активности КФК черезкаждые 6–8 ч с целью определения объёма пораже-ния миокарда (площадь построенной кривой актив-ности изофермента) и характера течения заболева-ния (осложнённое, неосложнённое) [6].
Аминотрансферазы (аспартатамино- и аланина-минотрансферазы) – универсально распространён-ные внутриклеточные (цитоплазматические имитохондриальные) ферменты, определение актив-ности которых традиционно используется в клини-ческой практике для диагностики ИМ. Их актив-ность начинает увеличиваться к концу первыхсуток заболевания, максимума достигает к концувторых суток и нормализуется в конце третьихсуток от начала развития ИМ. Специфичным дляпоражения сердечной мышцы является увеличениеотношения АСТ к АЛТ в 2,5 раза (индекс ДеРитиса). С активным внедрением и широкимиспользованием в клинической практике диагно-стики ИМ определения активности КФК и Тн –органоспецифичных изоэнзимов, основным моти-вом определения АСТ/АЛТ остаются дешевизна идоступность этих исследований.
Другой органоспецифичный для миокардаэнзим, используемый в диагностике ОИМ и коро-нарных синдромов, – лактатдегидрогеназа (ЛДГ).
Вестник анестезиологии и реаниматологии 2010. Т. 7, № 3
56

Он состоит из 5 изоферментов, содержащих 2 типаполипептидных цепочек (М и Н). Изофермент,преимущественно содержащийся в сердечноймышце, содержит 4 идентичные Н-цепочки, и егообозначают как ЛДГ1, а изофермент, содержащий 4идентичных М-цепочек, маркируется как ЛДГ5.Активность специфичных для миокарда изофер-ментов ЛДГ начинает увеличиваться с конца пер-вых суток заболевания, максимума достигает ктретьим суткам и нормализуется к 5–6-му дню раз-вития ИМ. Активность ЛДГ следует определятьежесуточно в течение трёх суток.
Диагностическая ценность вышеописанныхмаркёров поражения кардиомиоцитов зависит отсроков и частоты их определения в динамике раз-вития ОИМ. Патогномоничным для ИМ являетсяповышение активности ферментов не меньше чемв 1,5–2 раза от уровня нормы с последующим сни-жением до нормальных значений.
Поэтому однократное использование миокар-диальных маркёров у больных с подозрением наострый ИМ неприемлемо и практически пол-ностью обесценивает диагностическую значи-мость данных методик.
Клинико-лабораторные исследования. У мно-гих больных, переносящих ИМ, отмечается повыше-ние температуры – субфебрилитет, который сочетает-ся с нейтрофильным лейкоцитозом до 12–14× 109/лбез палочкоядерного сдвига, характерного для пнев-монии. Нейтрофильный лейкоцитоз при ИМ сопро-вождается умеренной эозинофилией. По мере умень-шения лейкоцитоза (на 3–4-е сутки от начала заболе-вания) в периферической крови определяется уско-ренная СОЭ (симптом «ножниц»), которая остаётсяповышенной в течение 1–2 недель.
Для ИМ характерны увеличение уровня фиб-риногена и положительная реакция С-реактивно-го белка.
При исследовании коагулограммы крови востром периоде ИМ регистрируется тенденция кгиперкоагуляции с появлением продуктов дегра-дации фибриногена и увеличением концентрацииД-димера (один из фрагментов цепочки фибринав сгустке крови), свидетельствующие о спонтан-ной активации фибринолитической системы вответ на тромбообразование [1–5].
Эхокардиографические исследования приостром ИМ. Начиная с 1954 г., когда были сделаныпервые сообщения об использовании ультразвуко-вой техники в диагностике клапанных пораженийи врождённых пороков сердца, эхокардиографияпретерпела значительные изменения от развёрткидвижения во времени (М-режим) до двух- и трёх-мерного ультразвукового изображения анатомиче-ских структур и камер сердца в реальном времени.
Двухмерное секторальное сканирование ульт-развуком позволяет в динамике оценить размерыкамер, толщину и движения стенок сердца, а также
нарушения замыкательных функций клапанногоаппарата и внутрисердечных анатомических струк-тур. Наличие зон гипокинезии, акинезии, дискине-зии даёт представление о локализации и размерахИМ, а динамическое наблюдение за сокращениемэтих зон - ценную информацию о развитии патоло-гического процесса. Оценка показателей внутри-сердечной гемодинамики (фракция сердечноговыброса) даёт представление о размерах пораже-ния и нарушениях насосной функции сердца.
Одним из перспективных методов диагности-ки жизнеспособности миокарда является миокар-диальная контрастная эхокардиография. Привнутривенном введении контрастного вещества(фосфолипиды или альбумин размерами от 2,5 до 5мкм) увеличивается эхоконтрастность крови вполостях сердца и микрососудистом русле мио-карда пропорционально объёму кровотока.Современные ультразвуковые приборы, оснащён-ные новыми технологиями, позволяют быстроразрушить в полостях сердца микроструктурыконтрастного вещества и по скорости их после-дующего повторного накопления и вымываниярассчитать абсолютную величину перфузии мио-карда (в мл/г/мин), что позволяет не тольковыявить зоны рубцового и жизнеспособного мио-карда. Этот метод даёт возможность оценить сте-пень «оглушённости» миокарда и выявить обла-сти гибернирующей сердечной мышцы [8].
Фармакологическая нагрузочная эхокар-диография (стресс-ЭхоКГ) с добутамином[5–10 мкг/(кг•мин-1)] позволяет выявить«гибернирующий» миокард и степень его«оглушённости» [5, 8].
Таким образом, с помощью эхокардиографииможно неинвазивно в динамике диагностироватьобласть поражения и степень нарушения насос-ной функции сердца, на основании чего оцениватьэффективность проводимого лечения и прогнози-ровать развитие болезни [6, 8].
Однако этот метод имеет ограниченные воз-можности в случаях анатомических особенностейгрудной клетки (узкое межреберье, нарушенияанатомических взаимоотношений органов средо-стения) и эмфизематозного изменения лёгочнойткани, препятствующих распространению ультра-звукового сканирующего луча [3, 4].
Дифференциальная диагностика. В ряде слу-чаев острый ИМ необходимо дифференцировать сдругими заболеваниями, так как интенсивнаяболь в грудной клетке может быть обусловленаразличными патологическими процессами в орга-нах грудной, брюшной полостей и других систе-мах человеческого организма [1, 7, 8].
1. Заболевания сердечно-сосудистой системы:ИБС, гипертрофическая кардиомиопатия, острыйперикардит, острый миокардит, тромбоэмболиялёгочной артерии, расслаивающая аневризма аорты.
В помощь практическому врачу
57

58
Вестник анестезиологии и реаниматологии 2010. Т. 7, № 3
1.Кардиология. Руководство для врачей / Под редакциейОганова Р. Г., Фоминой И. Г. М.:Медицина. – 2004.
2.Орлов Л. Л., Шилов А. М., Ройтберг Г. Е. Сократительнаяфункция и ишемия миокарда. – М.: Наука. – 1987.
3.Руководство по первичной медико-санитарной помощи.«ГЭОТАР-Медиа». – 2006.
4.Саидова М. А. Современные методы диагностики жизне-способного миокарда // Кардиология. – 2005. – Т. 45,№ 9. – С. 47-54.
5.Сыркин А. Л. Инфаркт миокарда. – МИА. – М., 1998.6.Шилов А. М. Инфаркт миокарда. – 2008. – М.: Миклош.
– С. 163. 7.Braunwald E. Heart Disease. Second Edition. – 1984.
W. B. Saunderes Company.8.Cho S., McConnell M. V. Echocardiographic and magnetic
resonance methods for diagnosing hibernating myocardi-um // Nucl. Med. Commun. – 2002. – Vol. 23. – P. 331-339.
Литература
2. Заболевания лёгких и плевры: острая плев-ропневмония, спонтанный пневмоторакс.
3. Заболевания пищевода и ЖКТ: эзофагиты,дивертикулёз пищевода, грыжа пищеводногоотверстия диафрагмы, язвенная болезнь желудка,острый холецистопанкреатит.
4. Заболевания опорно-двигательного аппара-та: остеохондроз шейно-грудного отдела позво-ночника, плечевой плексит, миозит, межрёбернаяневралгия (опоясывающий лишай).
Таким образом, основными критериями диф-ференциальной диагностики ИМ являются: А– наличие типичного стенокардитического болевогоприступа или наличие дискомфорта в груднойклетке, Б – характерные изменения на ЭКГ и В – увеличение кардиоспецифических маркёров нек-роза сердечной мышцы. Необходимо динамиче-ское мониторирование вышеуказанных детерми-нант для оценки эффективности проводимоголечения и профилактики возможных осложнений,для регламентирования тактики реабилитацион-ного периода и прогноза жизни пациентов, пере-нёсших ИМ.
ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ:
Шилов Александр МихайловичМосковская медицинская академия им. И. М. Сеченова, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой неотложныхсостояний в клинике внутренних болезней ФППОВ.
Тел./факс: 8 499 268 76 66.
Мельник Мария Валерьевна Московская медицинская академия им. И. М. Сеченова, доктор медицинских наук, профессор кафедры неотложных состояний в клинике внутренних болезней ФППОВ. Е-mail: [email protected].
Осия Астанда Отаровна Московская медицинская академия им. И. М. Сеченова, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры неот-ложных состояний в клинике внутренних болезней ФППОВ.
Селезнёва Марина Германовна ГКБ № 33 им. проф. А. А. Остроумова, заместитель главного врача по лечебной работе.

59
История анестезиологии и реаниматологии
АНЕСТЕЗИЯ И ПРОТИВОШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ В ПЕРИОДВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ(К 65-ЛЕТИЮ ЗАВЕРШЕНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ)Ю. С. Полушин
ANESTHESIA AND ANTI-SHOCK THERAPY DURING THE SECOND WORLD WAR(TO THE 65 ANNIVERSARY OF THE COMPLETION OF THE SECOND WORLD WAR)
Yu. S. Polushin
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН, г. Санкт-Петербург
Статья посвящена оценке состояния военной анестезиологии в СССР и других странах накануне ив ходе Второй мировой войны. Отражены взгляды отечественных и зарубежных военных специалистовна место общей и местной анестезии при лечении раненых, а также их изменение в ходе войны.Отмечено, что приобретённый в период боевых действий опыт подтвердил целесообразность выделе-ния анестезиологии в самостоятельную специальность и выявил предпосылки для выделения изхирургии реаниматологии. Он, несомненно, способствовал ускорению процесса формирования нашейспециальности в её современном виде.
Ключевые слова: история анестезиологии, анестезия, противошоковая терапия, лечение раненых.
The paper assesses the state-of-the-art of military anesthesia in the USSR and other countries beforeand during the Second World War. It shows the opinions of Soviet and foreign military specialists as tothe place of general and local anesthesia in the treatment of the wounded and their change during thewar. The experience gained during combat operations has supported that it is expedient to identify anes-thesiology as an independent specialty and revealed prerequisites to the separation of reanimatologyfrom surgery. It is undoubted that it contributes to the acceleration of development of our specialty aswe see it today.
Key words: history of anesthesiology, anesthesia, anti-shock therapy, treatment of the wounded.
В мае текущего года исполнилось 65 лет со дняокончания Великой Отечественной войны, характе-ризовавшейся колоссальными человеческимижертвами: Советский Союз потерял убитыми 27 млн человек (в том числе около 9 млн военно-служащих). Санитарные потери ранеными состави-ли более 15 млн человек. Вместе с тем отлаженная входе войны система этапного лечения раненых сэвакуацией по назначению продемонстрировалавысокую эффективность, что в совокупности сгероическими усилиями советских медиков способ-ствовало возвращению в строй 72,3% раненых.Результаты оказания помощи пострадавшим раз-личных категорий нашли отражение в многотомномколлективном труде «Опыт советской медицины вВеликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», кото-рый был издан по постановлению СоветаМинистров СССР в 1955–1957 гг. Они, в частности,свидетельствовали, что оперируемость раненых вучреждениях переднего края на завершающем этапевойны достигала 45–55%, причём до 70–90% вме-шательств приходилось на долю первичной хирур-гической обработки ран. По сравнению с Первоймировой войной результаты лечения раненыхзначительно улучшились: более чем вдвое снизи-
лась летальность, почти в два раза возросло числораненых, возвращённых в строй. Высокая хирурги-ческая активность при лечении огнестрельныхранений, несомненно, повлияла на ход развитияанестезиологии, причём не только в СоветскомСоюзе, но и в других странах, принимавших участиево Второй мировой войне.
Анализ литературы, посвящённой этим вопро-сам, свидетельствует, что в отличие от СССР в рядедругих стран анестезиология в военной медицине кначалу войны уже фактически выделилась в само-стоятельное направление. Проведение анестезииперед войной постепенно переходило в руки специ-ально подготовленных врачей и медицинскихсестёр, что создавало условия для разработки ивнедрения в практику более безопасных способовнаркотизации, созданию новых техническихсредств, а также способствовало совершенствова-нию организационных форм оказания анестезиоло-гической помощи. В частности, появление новыхмоделей наркозных аппаратов, основанных нарециркуляции газов и поглощении углекислоты взамкнутой или полузамкнутой системах, позволилозаменить инсуфляционный способ интратрахеаль-ного наркоза интубационным. При использовании

последнего предпринимались попытки выключатьсобственное дыхание больного и проводить искус-ственную вентиляцию лёгких. Апноэ первоначаль-но достигали посредством гипервентиляции лёгкихбольшим потоком газа и введения относительнобольших доз опиатов. Иногда выключение есте-ственного дыхания достигали углублением наркозатиопенталом или циклопропаном. В период междуПервой и Второй мировыми войнами вошли в прак-тику некоторые новые анестетики. В 1924 г. предло-жен внутривенный вероналовый наркоз, а черезпять лет испытан в клинике внутривенный аверти-новый наркоз [25]. Оба этих анестетика в тридцатыегоды были постепенно вытеснены эвипан-натриеми пентоталом. С 1938 г. вошёл в практику цикло-пропановый наркоз. В 1940 г. стали успешно приме-нять трихлорэтилен, а с 1942 г. – миорелаксанты(интокострин).
Барбитураты короткого действия получилиширокое распространение при непродолжительныхоперациях, не требующих расслабления мышц.Были разработаны, а затем стали использовать вклинической практике способы комбинированногообезболивания барбитуратами в сочетании с други-ми анестетиками, а также с местной или спинно-мозговой анестезией [19].
Безусловно, уровень развития военной анесте-зиологии в разных странах был неодинаковым.Например, английские и американские хирурги ианестезиологи предусматривали использование ввоенно-полевых условиях сравнительно большогоарсенала анестезиологических средств. Считаяосновным среди них эфир, они надеялись восполь-зоваться преимуществами внутривенного и газово-го наркоза почти так же широко, как и в мирноевремя. Применение хлороформа допускалось лишьв исключительных случаях, когда почему-либонельзя использовать более удобные и безопасныепрепараты. К хлорэтиловому наркозу и местнойанестезии также ставили относительно узкие пока-зания.
В Германии, Франции, Италии и других уча-ствовавших в войне странах средства и методы,предусматриваемые для обезболивания в военноевремя, были более ограниченными: в них к томувремени чёткой специализации по анестезиологиине было, вопросами интраоперационного обезболи-вания занимались хирурги.
В отношении обеспечения анестезиологически-ми средствами и наркозной аппаратурой положениев зарубежных армиях также было неодинаковым. Уангличан и американцев, кроме эфира, хлороформа,гексенала, пентотала и хлорэтила, на снабженииимелись закись азота и в ограниченном количествециклопропан. Они имели большую возможность,чем другие армии, использовать при наркотизациикислород.
В первый период войны в английских госпита-
лях применяли аппараты Бойля и испарителиКловера (J. T. Clover), неудобные в полевых усло-виях. Положение значительно улучшилось послетого, как в 1941 г. медицинские учреждения англий-ских вооруженных сил получили так называемый«оксфордский испаритель». В 1944 г. была принятана снабжение его усовершенствованная модель –аппарат ЭМО. Американцы в начале войны пользо-вались довольно громоздким аппаратом фирмы«Маккесон» («McKesson»), в последующем ониприняли на снабжение более портативный, проч-ный и очень надёжный в работе аппарат фирмы«Хайдбринг» («Heidbrink»), который с успехомвыдержал испытание войной.
Английские и американские анестезиологи,помимо аппаратов, имели в своих комплектахларингоскопы, интубационные трубки, бронхоско-пы, катетеры для отсасывания мокроты, воздухово-ды, обычные маски для капельного наркоза и неко-торые другие принадлежности.
В немецкой армии было некоторое количествонаркозных аппаратов фирмы «Дрегер». Онииспользовались в основном в тыловых госпиталях.Вопрос об обеспечении наркозными аппаратамиполевых медицинских учреждений, по-видимому,не рассматривался во время войны. Аналогичноеположение с аппаратурой и принадлежностями дляобщей анестезии существовало и в других странах –Франции, Италии, Японии [19].
В нашей стране основные положения военно-полевой хирургии, относящиеся к проблеме обезбо-ливания при хирургических вмешательствах, в тотпериод также формировались на основе опыта,накопленного в предшествующие войне годы.Однако активное обсуждение этих вопросов развер-нулось лишь за несколько лет до начала ВеликойОтечественной войны, к чему обязывали достиже-ния и проблемы хирургии мирного времени, а такжеопыт, приобретённый во время военных событий вМонголии и в ходе Финской войны.
В тот очень сложный для страны историческийпериод трудно было рассчитывать на быструю под-готовку достаточного числа квалифицированныхнаркотизаторов (так тогда называли медиков, при-влекавшихся к наркотизации, т. е. анестезии) иснабжение периферийных лечебных учрежденийсколько-нибудь сложным оснащением. В связи сэтим акцент во многом был сделан на местную ане-стезию.
С начала 30-х годов разработанную А. В. Виш-невским [10, 12] инфильтрационную местную ане-стезию по способу тугого ползучего инфильтратастали широко внедрять в практику. Данное событие,безусловно, явилось выдающимся достижениемотечественной медицины. Простота, надёжность,доступность и другие преимущества этого методапривели к быстрому распространению его по всейстране, что, несомненно, оказало прогрессивное
60
Вестник анестезиологии и реаниматологии 2010. Т. 7, № 3

влияние на развитие хирургии. Это позволило при-влечь к большой оперативной деятельности многиххирургов, в том числе и на периферии в небольшихлечебных учреждениях.
То обстоятельство, что этим методом быстро ихорошо овладели все хирурги, то, что он не требовалспециального оснащения и был доступным в любыхусловиях, несомненно, повлияло на тактику разра-ботки проблемы применительно к военно-полевойхирургии. Нельзя было также не учитывать, что встране отсутствовали врачи и средний медицин-ский персонал, имевшие специальную подготовку вобласти обезболивания. На оснащении медицин-ских учреждений армии, так же как и гражданскихклиник и больниц, были лишь примитивные нар-козные маски и самые простые принадлежности,что не позволяло рассчитывать на более или менеесовершенное и безопасное проведение общей ане-стезии. Не предусматривалось снабжение кислоро-дом. Всё это делало местную анестезию наиболееприемлемым методом и для военной медицины.
Между тем в специальных руководствах и учеб-никах по военно-полевой хирургии при очень скуд-ных сведениях по обезболиванию неизменно повто-рялось, что почти единственным способом, которыйбудет применяться на войне, явится ингаляцион-ный наркоз [13, 14]. На неправильность такой точкизрения одним из первых обратил внимание В. А. Шаак [26]. Он писал: «По нашему глубокомуубеждению, местное обезболивание на войне долж-но занять большее место, чем это было до сих пор».Свою точку зрения он отстаивал ранее и наВсесоюзном совещании хирургов в 1937 г., посвя-щённом проблемам военно-полевой хирургии, гдеобезболивание рассматривалось в качестве частноговопроса. С ним был солидарен А. В. Вишневский,который в своём докладе акцентировал внимание надостоинствах инфильтрационной анестезии по спо-собу тугого ползучего инфильтрата [9].
Однако И. А. Эскин обращал внимание на раз-личные условия, в которых находятся этапы меди-цинской эвакуации во время войны [28]. В поискахприемлемого решения он предлагал идти не по путиизыскания универсального метода анестезии, чтосчитал в то время нереальным, а по пути подборатаких средств и способов обезболивания, которыехорошо зарекомендовали себя в мирное время иотвечают условиям того или иного этапа медицин-ской эвакуации. Именно с этих позиций большин-ство хирургов и стремилось рассматривать имев-шиеся в то время способы обезболивания [6].Помимо местной анестезии, речь шла об эфирной,хлороформной, хлорэтиловой и гексеналовой ане-стезиях.
Несмотря на то что к рассматриваемому перио-ду хлороформ в практике мирного времени почтисовершенно не применялся, многие полагали, что ввоенно-полевых условиях он останется главным
анестетиком. При этом ссылались на общеизвест-ные его особенности: невоспламеняемость, быстроенаступление сна, незначительная опасность лёгоч-ных осложнений, портативность упаковки [7, 15]. Кдостоинствам хлорэтила, также рассматривавшего-ся в качестве препарата для использования в поле-вых условиях, относили быстрое наступление нар-коза и пробуждение без возбуждения, отсутствиегипотензивного эффекта, невоспламеняемость,дешевизну, редкое возникновение осложнений [17,24].
Весьма заманчивыми рисовались перспективыи в отношении эвипана натрия (синтезирован в1932 г.). У нас аналогичный препарат под названиемгексенал был получен в 1936 г. В практике мирноговремени он был проверен многими хирургами [16].На упомянутом выше Всесоюзном совещаниихирургов (1937) много говорили и о гексенале, под-чёркивая особые преимущества его при отравленииотравляющими веществами. Эту точку зрения под-держивал, в частности, А. В. Протасевич и некото-рые другие хирурги [22]. Но её разделяли далеко невсе. Например, Н. Н. Бурденко [7], В. А. Шаак [26]не возлагали на барбитуратовый наркоз большихнадежд, так как он не был ещё хорошо освоен.
Жизнь, однако, свидетельствовала, что и мест-ная анестезия не вполне идеальна. В частности, про-фессор М. Н. Ахутин, обобщая опыт хирургическойдеятельности во время боёв у озера Хасан (июль –август 1938) отметил, что она далеко не во всех слу-чаях оказывалась удобной и легко производимой [1,2]. Он писал: «…уже не говоря о крупных вмеша-тельствах (лапаротомия, ампутация), и простаяхирургическая обработка не всегда удавалась». Онвыражал сомнение и в пригодности для военно-полевой хирургии внутривенного гексеналовогонаркоза, так как тот часто приводил к понижениюартериального давления.
Для того чтобы обстоятельно разобраться с про-блемой обезболивания, была сформирована специ-альная группа во главе с А. А. Вишневским, кото-рую направили работать в ДМП (дивизионныймедицинский пункт) и ППГ (полевой подвижнойгоспиталь) во время боевых действий на рекеХалхин-Гол (май – сентябрь 1939). Под местнойанестезией они выполнили более 70% всех опера-ций. Участники этой группы показали, что с помо-щью данного метода можно достигнуть хорошегообезболивания при самых сложных хирургическихвмешательствах и что такая анестезия не занимаетслишком много времени. В связи с полученнымирезультатами некоторые хирурги стали считатьместную инфильтрационную анестезию по суще-ству универсальным методом обезболивания длявоенно-полевой хирургии. Впервые тогда же былавысоко оценена роль футлярной блокады для опе-раций и перевязок на конечностях и в профилакти-ке вторичного травматического шока [8, 11].
История анестезиологии и реаниматологии
61

Таким образом, предложения о возможностииспользования инфильтрационной анестезии по А. В. Вишневскому были подтверждены на практи-ке. В связи с полученными результатами некоторыехирурги были склонны признать данный метод уни-версальным для военно-полевой хирургии. Этаточка зрения, однако, привела к переоценке местнойанестезии. В действительности же, как показал тотже опыт военных событий в Монголии, а такжепрактика мирного времени, более рациональнобыло ориентироваться на дифференцированныйподход к выбору анестезии, о котором ратовал И. А.Эскин [28].
Это подтвердила и Финская война (ноябрь 1939– март 1940). Во время неё подверглись серьёзнойпроверке положения, которые к тому времени сло-жились в военно-полевой хирургии. Достоинстваместной анестезии были подтверждены. Они пред-ставлялись настолько убедительными, что не при-знавать её основным методом на случай войны небыло никаких оснований. Мнения разошлись лишьв отношении применения данного способа обезбо-ливания у тяжелораненых. В опытных руках мест-ная анестезия позволяла спокойно проводить опе-рации по поводу самых тяжёлых повреждений.Однако многие хирурги оказывались не в состоя-нии обеспечить её адекватность. Зачастую операциисопровождались более или менее значительнымбеспокойством раненых, иногда стонами и криками,что в ряде случаев не позволяло провести радикаль-ную хирургическую обработку. Поэтому, исходя изопыта данной войны, В. И. Попов [20, 21], М. Н.Ахутин [4] и некоторые другие возражали противпризнания местной анестезии в качестве универ-сального метода. Они считали, что при обширныхразмозжённых ранах местная анестезия себя неоправдывала и иногда была причиной недостаточнорадикальной обработки. По их данным, общая ане-стезия применялась во время этой войны примерноу 20–30% раненых, подвергаемых хирургическойобработке, что свидетельствовало против местногообезболивания.
Отношение хирургов к различным анестетикампосле Финской войны наиболее полно определилМ. Н. Ахутин [3]. Хлороформ продолжали считатьтем препаратом, который для военно-полевойхирургии не потерял своего значения. Считалось,что его достоинства в значительной степени ниве-лировали его недостатки. Эфир вообще в Финскуювойну занял ведущее место. Хирурги охотно приме-няли его из-за малой токсичности и большой тера-певтической широты. Опасность взрывов и воспла-менений паров эфира оказалась слишком преувели-ченной. Даже при освещении керосиновыми лампа-ми и свечами не было зарегистрировано ни одногонесчастного случая. Имело значение и то обстоя-тельство, что врачи и средний медицинский персо-нал в предшествовавшие годы накапливали в основ-
ном опыт применения эфирного наркоза. Хлорэтил,широко использовавшийся при кратковременныххирургических вмешательствах во время боевыхдействий у озера Хасан, в Финскую войну нашёлещё более широкое применение. Отдельные хирур-ги применяли его при каждой третьей-пятой опера-ции. Некоторые полагали, что показания к немумогли быть расширены за счёт тех ранений, хирур-гическая обработка которых под местной анестези-ей представлялась трудной.
В Финскую войну продолжали присматривать-ся к возможности использования в войсковом рай-оне гексенала. Предпринимали попытки применятьего не только для введения в наркоз и базис-нарко-за, но и в качестве основного анестетика при про-должительных операциях. Опыт показал, что успехпри гексеналовом наркозе во многом зависит отправильной методики его проведения. М. Н.Ахутин, выражавший перед войной с Финляндиейсомнения в возможности широкого применениягексенала на фронте, после войны существенноизменил своё мнение. Он стал считать, что гексеналявляется очень удобным анестетиком для полевыхусловий, особенно при наличии у раненых бронхи-тов, а также для хирургической обработки ран,плохо поддающихся местной анестезии (в частно-сти, при ранениях глаз, челюстей и множественныхран) [4].
В итоге в инструкции по неотложной хирургииот 1940 г. в военных условиях был рекомендованиндивидуальный подход к выбору метода обезболи-вания. После военных событий в Монголии весьмакатегорично была сформулирована необходимостьспециализации сестёр и санитарных инструкторов сцелью подготовки наркотизаторов. Однако поста-новление Наркомздрава СССР об этом было утвер-ждено только в 1940 г. и до начала ВеликойОтечественной войны не было применено на прак-тике. Серьёзной работы по подготовке анестезиоло-гических кадров, разработке специального матери-ально-технического оснащения по-прежнему невелось. В результате Великую Отечественнуювойну страна начинала без специально подготов-ленных «наркотизаторов», а на табельном оснаще-нии имелись только маска Эсмарха, капельница дляхлороформной анестезии, роторасширитель, языко-держатель и штопор для открывания бутылочек сэфиром и хлороформом. На всех этапах медицин-ской помощи наркоз должны были проводить меди-цинские сёстры, не имевшие специальной подготов-ки. Говорить поэтому о выделении в нашей армиианестезиологии в самостоятельное направление,как это произошло в Англии и США, не было осно-ваний.
Великая Отечественная война, подтвердив пра-вильность основных положений, внесла и многонового. Любому виду анестезии, как правило, пред-шествовало введение раненому анальгетика (обыч-
62
Вестник анестезиологии и реаниматологии 2010. Т. 7, № 3

но морфина или пантопона), причём со временемвместо подкожного введения стали прибегать квнутривенной инъекции для повышения управляе-мости его действия. Вопреки опасениям, такаяметодика, применявшаяся в основном в медико-санитарных батальонах (МСБ) и в госпиталях, неприводила к угнетению дыхания чаще, чем подкож-ные инъекции.
Из методов анестезии наиболее часто применя-ли местную. На различных фронтах она занимала от50–60 до 95%. Такая разница в значительной мереопределялась взглядами на выбор обезболивания исоответствующими установками фронтовых хирур-гов. В меньшей мере отразилась специфика условийоказания хирургической помощи.
В ходе войны проявилась своеобразная динами-ка показаний к различным методам анестезии. Онахарактеризовалась расширением использованияобщей анестезии, особенно в войсковом районе. Вчастности, при первичной обработке ран в случаяхоткрытых огнестрельных переломов её применялив первый год войны в 26%, а в 4-й – в 42,6% от обще-го числа анестезий, при ранении мягких тканей – в36,2 и в 51% случаев соответственно. Если при обо-роне общую анестезию использовали у 14,8% ране-ных, то при наступательной операции – у 50,5%.Расширение показаний к общей анестезии объясня-лось последовательным расширением объёма опе-раций, стремлением хирургов качественнее прово-дить хирургическую обработку ран посредствомиссечения краёв вместо её рассечения, а такжежеланием экономить время и увеличить пропуск-ную способность операционных. Последнее обстоя-тельство становилось особенно важным в периодбольшого потока раненых при наступательных дей-ствиях наших войск [25].
На этапах медицинской помощи войсковогорайона, в МСБ и хирургических полевых подвиж-ных госпиталях (ХППГ), наркоз применяли значи-тельно чаще, чем в госпиталях армейской и фронто-вой баз. Это объясняется тем, что в войсковом рай-оне операции обычно предпринимали по поводутяжёлых повреждений. На последующих этапахотносительно чаще обрабатывали менее тяжёлыераны. Имело значение и то, что операции здесьвыполняли специалисты, многие из которых хоро-шо владели местной анестезией.
Среди методов местной анестезии преобладалаинфильтрационная, значительно реже использова-ли спинно-мозговую или новокаиновую блокады.Спинно-мозговая анестезия, как и предполагали довойны, в войсковом районе почти не нашла приме-нения. При шоке и некомпенсированной кровопоте-ре снижение артериального давления при введениианестетика приобретало иногда угрожающий харак-тер. В госпиталях, находящихся за пределами вой-скового района, этот метод анестезии некоторыехирурги применяли относительно часто. По свод-
ным данным А. Л. Стуккей, в армейском районе еёприменяли в 3% случаев, во фронтовых госпиталях– 3,3% и в глубоком тылу – 7,6% [23].
Общая анестезия была представлена нескольки-ми способами. Чаще других применяли ингаля-ционную анестезию. Самым распространённым былэфирный наркоз (около 22 из 30,2%). Его проводи-ли самым примитивным образом, пользуясь маскойЭсмарха и флаконом эфира, из которого последнийнакапывали на маску через марлевый фитилёк.Маска Омбредана была в наличии лишь в некото-рых тыловых госпиталях. Введение в наркоз зани-мало много времени (не менее 15–20 мин). Все этовремя около раненого, помимо занимающейся нар-котизацией сестры, должен был находиться санитарили вторая медицинская сестра, чтобы удержать егопри развитии возбуждения. Иногда в этот периодприходилось привлекать на помощь ещё несколькочеловек. Во время операции также обычно былонедостаточно одного наркотизатора, руки которогобыли связаны маской. В лучшем случае наркотизи-рующая сестра могла контролировать глазныесимптомы, следить за дыханием и окраской кожныхпокровов. Для контроля за пульсом, уровнем арте-риального давления и для осуществления гемо-трансфузий необходимо было участие другой сест-ры или врача.
Для оптимизации течения анестезии эфир иног-да комбинировали с хлорэтилом, используя послед-ний для введения в наркоз. Гладкое течение притаком сочетании во многом зависело от умениясвоевременно перейти от одного анестетика к дру-гому, что требовало определённого опыта.
В конце войны в страну было завезено значи-тельное количество американских аппаратовфирмы «Хайдбринг». Они поступили на оснащениенекоторых военно-медицинских учреждений, что взначительной степени облегчило проведение ане-стезии [25].
Хлорэтил довольно часто применяли и каксамостоятельный анестетик, особенно при кратко-временных операциях. Хлороформ же применялиочень редко (около 1% всех ингаляционных нарко-зов). Причём в ходе войны показания к нему посте-пенно суживались. В конце войны к этому виду ане-стезии уже почти никто не прибегал.
Неингаляционная анестезия, несмотря на каза-лось бы положительные качества, заняла оченьнебольшое место в сравнении с ингаляционнымметодом. По сводной статистике, на её долю при-шлось около 1,5% всех анестезий. В войсковом рай-оне к ней прибегали в два раза реже, чем в госпита-лях фронтовой базы. В ходе войны показания кэтому виду анестезии не только не расширились, нодаже сузились, хотя те, кто применяли его, отзыва-лись о нём весьма положительно [22].
Таким образом, в ходе Великой Отечественнойвойны выяснилось, что показания к общей и мест-
История анестезиологии и реаниматологии
63

ной анестезии одинаково широки. Несовершеннаятехника наркотизации и отсутствие квалифициро-ванных, специально подготовленных для проведе-ния анестезии кадров вынуждали хирургов привыборе общей анестезии соблюдать крайнюю осто-рожность. Этим же определялись и поиски методовнаркотизации, которые можно было бы использо-вать при отсутствии квалифицированных врачей,специализирующихся в данной области, с помощьюсамых простых принадлежностей. Однако этипопытки оказались безуспешными. Тенденция красширению показаний к общей анестезии могла вполной мере проявиться лишь при наличии врачей-анестезиологов, которых в нашей армии не было.
Представление о том, как в период прошлойвойны обеспечивали условия для операций, будетнеполным, если не рассмотреть, хотя бы в общихчертах, организацию противошоковой терапии. Доначала Второй мировой войны шок, как патологиче-ское состояние, часто возникающее при тяжёлыхранениях, широко изучали во всех странах. Война1914–1918 гг. явилась первой серьёзной проверкойпрактических результатов многолетней исследова-тельской работы учёных. Она показала, что частотаи тяжесть травматического шока в связи с ростомогневой мощи армий значительно увеличились, апроводимая терапия часто оказывалась малоэффек-тивной. Это побудило учёных во многих странахрасширить исследования, направленные на изуче-ние патогенеза, профилактики и лечения шока.Например, W. B. Cannon, известный физиолог иофицер резерва армии США, по результатам, полу-ченным при изучении боевой травмы в американ-ских и английских войсках во Франции и в Англии,рекомендовал организовывать специальные проти-вошоковые команды, состоящие из врача и сестры,которые должны были готовить раненых к опера-ции, и в том числе переливать им кровь [29]. Этопредложение было реализовано американцами вовремя Второй мировой войны в ходе боёв вСеверной Африке (апрель 1943 г.). Если сил проти-вошоковой команды было недостаточно, к работе впротивошоковой палате подключались хирург ианестезиолог. Они переливали раненым кровь,плазму, воду или 5%-ную декстрозу, обеспечивалиингаляцию кислорода через носовые катетеры.Если позволяло время, анестезиолог оценивалсостояние раненого и осуществлял медикаментоз-ную подготовку к операции, вводя внутривенноатропин и морфин [30].
В нашей стране в решении рассматриваемойпроблемы приняли участие виднейшие специали-сты. В 1938 г. по инициативе Н. Н. Бурденко былаучреждена центральная комиссия по изучениюшока. Результаты исследований в предвоенныегоды неоднократно обсуждали на общесоюзныхнаучных конференциях и съездах. К началуВеликой Отечественной войны по основным вопро-
сам терапии травматического шока советские учё-ные имели более или менее единую точку зрения.Для войскового района была разработана опреде-лённая система противошоковых мероприятий,которая в ходе войны последовательно совершен-ствовалась: в батальоне проводили иммобилизациюи вводили морфий, в полковом медицинском пунк-те с целью обеспечения безопасной эвакуации про-тивошоковые мероприятия включали согревание,новокаиновые блокады, введение противошоковыхрастворов и даже крови. В МСБ и ХППГ первойлинии противошоковую терапию проводили в пол-ном объёме. За пределы войскового района раненыхв состоянии шока поступало немного.
К концу войны, когда уже были выработанычёткие представления об этиологии и патогенезешоковых состояний, лечебные мероприятия приня-ли более планомерный характер и вылились, вконечном счёте, в определённую систему комплекс-ной терапии травматического шока, предусматри-вающую: прекращение потока раздражающих боле-вых импульсов из очага травмы и нормализациюпроцессов возбуждения и торможения в централь-ной нервной системе, ликвидацию развивающегосяпри шоке расстройства кровообращения и завися-щего от него кислородного голодания, нормализа-цию обмена веществ [5, 27]. В целях прекращенияболевых импульсов из очага травмы нашла широ-кое применение новокаиновая блокада нервныхпроводников, а также области переломов костей иповреждения суставов, при ранениях же груднойклетки – вагосимпатическая блокада по А. В. Виш-невскому. Большое значение в целях создания мак-симального покоя для раненой конечности при-обретала и надёжная её иммобилизация. Для нор-мализации процессов возбуждения и торможения вцентральной нервной системе и повышения еёустойчивости к кислородному голоданию нашлиширокое применение морфин, алкоголь, бромистыйнатрий (бромид натрия), снотворно-наркотическиесредства. В числе последних особенно целесообраз-ными оказались гедонал, уретан, веронал, амитал-натрий, гексенал. Все эти средства в разных комби-нациях с добавлением глюкозы получили большоераспространение на фронте в составе различныхпротивошоковых жидкостей.
В целях ликвидации расстройств кровообраще-ния большое внимание было уделено согреваниюраненых (противошоковые палаты), а также систе-матическому применению переливаний кровезаме-щающих жидкостей и крови как внутривенным, таки внутриартериальным путем. Наконец, для норма-лизации обмена веществ рекомендовано вдыханиекислорода с углекислотой, а также применениеаскорбиновой кислоты и витамина В1. Что касаетсяупотребления эфедрина, лобелина, кофеина и кам-форы, то, как писал В. Н. Шамов: «…не видя их при-чинного действия при шоке, советские хирурги счи-
64
Вестник анестезиологии и реаниматологии 2010. Т. 7, № 3

тали всё-таки вполне целесообразным использоватьих симптоматическое влияние в некоторые момен-ты развития шокового процесса» [55].
Существовало твёрдое мнение, которое совпада-ло с официальными указаниями, в отношении того,что раненые не должны быть оперированы, пока невыйдут из состояния тяжёлого шока. Исключениеделали только в отношении раненых с неостанов-ленным кровотечением или угрожающим жизнинарушением дыхания при повреждении груди. Этитребования в основном выполнялись. Лечебныемероприятия были комплексными, но их осуществ-ление часто было шаблонным, недостаточно учиты-вались особенности патогенеза шока. Это объясня-лось главным образом тем, что работу в шоковойпалате возглавляли малоопытные врачи. Хотя тера-пия шока и возлагалась на хирургов, при большомпотоке раненых они не имели возможности непо-средственно заниматься лечением шока. В лучшемслучае один из старших хирургов время от временизаходил в шоковую палату, чтобы осмотреть ране-ных. В основном раненые в состоянии шока были напопечении молодого терапевта, зубного врача иливрача, возглавлявшего отделение санитарно-хими-ческой защиты, и медицинской сестры [25].
В ходе войны неоднократно на фронт выезжалВ. А. Неговский со своими коллегами для оказанияреанимационной помощи раненым с массивнойкровопотерей [18]. Деятельность этой группы, без-условно, способствовала развитию реаниматологии,но серьёзной роли в общей системе оказания помо-щи не сыграла.
Опыт войны показал, что противошоковаятерапия является своеобразным видом неотложнойпомощи, требующим значительных сил и средств, ивыявил необходимость выделения для работы впротивошоковой палате специальной бригады, воз-главляемой врачом, знакомым с патогенезом трав-матического шока и его терапией. Сложилось такжемнение, что тщательно выполненная местная ане-стезия во многих случаях создавала более безопас-ные условия для вмешательства, чем неумело про-водимый наркоз. Однако в других случаях, наобо-
рот, преимущество обеспечивал наркоз.В английской и американской армиях задачи,
связанные с противошоковой терапией, были воз-ложены, как и у нас, на хирургов. Но там к выведе-нию раненых из шока довольно часто привлекали ианестезиологов. В частности, в военно-воздушныхсилах английской армии была разработана целаясистема мер по реанимации лётчиков, сбитых надморем, которая находилась под контролемМакинтоша, возглавлявшего тогда анестезиологи-ческую службу военно-воздушных сил. Эти данныепоказывают, что в военно-медицинской служберяда западных стран произошло не только утвер-ждение анестезиологии как самостоятельной спе-циальности, но и появились фактические предпо-сылки для выделения из хирургии реаниматологии.
Подводя итог данному краткому обзору, можнозаключить, что опыт отечественной медицины вВеликой Отечественной войне показал абсолютнуюнеобходимость выделения анестезиологии в само-стоятельную специальность. Хотя в ходе войны, атакже сразу после её окончания никаких принципи-альных решений по организации анестезиологиче-ской помощи в нашей армии принято не было, темне менее, он, безусловно, ускорил процесс формиро-вания анестезиологии. Многие выдающиеся хирур-ги, участвовавшие в войне, прекрасно поняли значе-ние этого направления для развития хирургии иприложили в последующем немало усилий к тому,чтобы она развивалась и совершенствовалась.
ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ:
Полушин Юрий Сергеевич ГУ «НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН», доктор медицинских наук, профессор, руководитель отделения анестезиологии и реаниматологии.199034, Россия, г. Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 3.Е-mail: [email protected].
1.Ахутин М. Н. Некоторые вопросы организации санитар-ной службы в связи с опытом санитарного обеспече-ния боёв у озера Хасан // Военно-санитарное дело.-1938, № 12. – С. 10-11.
2.Ахутин М. Н. Хирургическая работа во время боёв у озераХасан. – М., 1939. – 88 с.
3.Ахутин М. Н. К методике первичной обработки военно-полевых ранений // Новый хирургический архив. –1940. – Т. 45, № 1. – С. 195-207.
4.Ахутин М. Н. Обезболивание в войсковом районе //Военно-санитарное дело. – 1941. – № 9. – С. 20-34.
5.Банайтис С. И. Профилактика и лечение шока в войсковомрайоне. Опыт советской медицины в Великой
Отечественной войне 1941-1945. – Т. 3. – С. 424-434.6.Бердичевский Ш. К вопросу об обезболивании в войско-
вом районе // Военно-санитарное дело. – 1938. – № 8.– С. 30-38.
7.Бурденко Н. Н. Наркоз и анестезия в будущей войне //Собрание сочинений, том VII, 1939. – С. 170-174.
8.Вишневский А. А. Местное обезболивание в условиях вой-скового района. – М.-Л., 1941. – C. 31.
9.Вишневский А. В. Выступление на Всесоюзном совещаниихирургов по вопросам военно-полевой хирургии в1937 г. // Хирургия. – 1937. – № 4. – С. 155.
10.Вишневский А. В. Местная анестезия по способу пол-зучего инфильтрата. Труды Всесоюзного совещания
Литература
История анестезиологии и реаниматологии
65

хирургов // Хирургия. – 1937. № 4. – С. 152-154.11.Вишневский А. В. Местное обезболивание и лечение
раненых в условиях военного времени // Советскаямедицина. – 1941. – № 1. – С. 10-15.
12.Вишневский А. В. Местное обезболивание по методу пол-зучего инфильтрата. – М., 1942. - 326 с.
13.Гирголав С. С. Краткий учебник военно-полевой хирур-гии. – Л., 1932. – 422 с.
14.Дитерикс М. М. Военно-полевая хирургия врача войско-вого района. Медгиз, 1933.-392 с.
15.Дитерикс М. М. Выступление на Всесоюзном совещаниихирургов по вопросам военно-полевой хирургии //Хирургия. 1937. – № 4. – С. 155.
16.Жоров И. С. Неингаляционный наркоз в хирургии. – М.,1938. – 195 с.
17.Куприянов П. А. Обезболивание при различных этапахэвакуации в войсковом районе. Труды Всесоюзногосовещания хирургов // Хирургия.– 1937. – № 4. – С. 152-154.
18.Мороз В. В., Ивлева В. В., Кожура В. Л. Становление иразвитие научной школы академика Российской АМНВ. А. Неговского. – В кн.: Труды НИИ общей реанима-тологии, т. 1 (Фундаментальные проблемы реанимато-логии). – М., 2000. – С. 12-32.
19.Полушин Ю. С., Левшанков А. И., Богомолов Б. Н.Анестезиологическая и реаниматологическая помощьраненым на войне.– Элби-СПб, 2003. - 287 с.
20.Попов В. И. Обезболивание в условиях этапного лечения.– В кн.: Этапное лечение повреждений. М. – Л., 1939. –С. 196-212.
21.Попов В. И. Обезболивание в войсковом районе //Вестник хирургии им. И. И. Грекова.– 1941. – Т. 62,
№ 2. – С. 178-183.22.Протасевич А. В. О гексеналовом наркозе // Вестник
хирургии им. И. И. Грекова. – 1941. – Т. 62, № 2 .– С. 187-191.
23.Стуккей А. Л. Методы обезболивания, применявшиеся вовремя Великой Отечественной войны. Опыт советскоймедицины в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. –1953. – Т. 3. – С. 470-515.
24.Тальман И. М. Выступление в прениях на Всесоюзномсовещании хирургов по вопросам военной хирургии //Хирургия. – 1937. – № 4. – С. 154.
25.Уваров Б.С. Вопросы военной анестезиологии и реанима-тологии: Дис. ... докт. мед. наук. – Л., 1964. – 556 с.
26.Шаак В. А. Обезболивание в военно-полевой хирургии //Вестник хирургии им. И. И. Грекова. – 1940. – № 1. –Т. 59. – С. 331.
27.Шамов В. Н. Проблема боли, шока и обезболивания вхирургии от Н. И. Пирогова до наших дней. –Пироговские чтения 1955 г. – В кн.: ТрудыПироговских чтений (1954-1983). – М.: Медицина,1986. – Т. 1. – С. 58-84.
28.Эскин И. А. Об обезболивании на этапах эвакуации вой-скового района // Военно-санитарное дело. – 1939. –№ 12. – С. 40-45.
29.Сannon W. B. Wound shock. In: Weed F.W. (ed.). Surgery. In:The Medical Department of the United States Army inthe World war. – Vol. 11. Washington, DC: GovernmentPrinting Office; 1927. – Сh. 7. – Р. 185-213.
30.Donaghy G. E., Doud E. A., Hoeflich W. F. Anesthesia. In:DeBakey M.E. (ed.). General Surgery. – Vol. 2.Washington, DC: US Army, Medical Deportment, Officeof The Surgeon General, 1955. – Ch. 3. – P. 181-189.
66
Вестник анестезиологии и реаниматологии 2010. Т. 7, № 3

Научнопрактический журнал«Вестник анес те зи о ло гиии ре а ни ма то ло гии»2010. Том 7, № 3
Издательский дом«НЬЮ ТЕРРА»Тел.: (495) 617 36 76, 617 36 04Факс: (495) 617 36 22Email: [email protected]
Исполнительный директорВ.В. ЯкушевОтветственная за выпускЮ.Б. БердниковаСлужба рекламыС.В. НикитинаEmail: [email protected]РедакторЕ.Н. КурючинаКорректорЕ.Г. НиколаеваТел.: (495) 617 36 77Email: [email protected]
Оригиналмакет,компьютерная версткаО.А. ВеселковаТел.: (495) 617 36 04
Формат 60 х 84/8. Бумага офсетная.Офсетная печать.
8 уч.изд. л. Тираж 1000 экз. Заказ № 450
67

Для заметок
68
Вестник анестезиологии и реаниматологии 2010. Т. 7, № 1
Related Documents