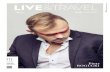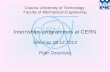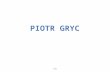Повесть о Петре и Февронии Муромских

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

Повесть о Петре и Февронии Муромских

Приблизительно с середины XIV в. начинается подъем русской культуры, постепенно оправляю-щейся от «томления и муки» иноземного ига, под которым Русь еще продолжала находиться, но к свержению которого уже начинала интенсивно готовиться.
Первые признаки культурного возрождения сказались в восстановлении былых связей с Византией и южными славянами. Возобновляются отношения с Константинополем, с Афоном, с монастырями Болгарии и Сербии. Стремлению русских к центрам православной образованности на Балканах от-ветило стремление византийской и южнославянской интеллигенции искать на Севере, в России, убежище от военных тревог и иноземных завоеваний. Все интенсивнее и интенсивнее становились переезды средневековой монашеской интеллигенции из страны в страну.
Международные связи включили Русь в то новое движение Предвозрождения, которое охватило собой в XIV и начале XV в. Восточную Европу и часть Малой Азии.
Как уже говорилось выше, главное отличие Предвозрождения от настоящей эпохи Возрождения заключалось в том, что общее «движение к человеку», которое характеризует собой и Предвозрож-дение, и Возрождение, не освободилось еще от своей религиозной оболочки. Напротив, Предвоз-рождение на Балканах характеризуется даже некоторым укреплением православия. Не выходя за пределы религиозного сознания, культура XIV в. больше, чем раньше, отражает интересы человека, становится «человечнее» во всех отношениях. Искусство психологизируется. Само христианство, в известной мере рассудочное и схоластическое в предшествующие века, получает новую опору в эмоциональных переживаниях личности. В живопись широко проникают темы личных страданий, усиливается интерес к человеческой психологии, развивается семейная тема в религиозной тематике. Изображение Христа, Богоматери и святых приобретает все более человеческие черты.
Характерное, но далеко не единственное предвозрожденческое течение представляло собой дви-жение исихастов (молчальников). Мистические течения XIV в., охватившие Византию, южных славян и в умеренной форме Россию, ставили внутреннее над внешним, «безмолвие» над обрядом, пропо-ведовали возможность индивидуального общения с богом в созерцательной жизни и в этом смысле были до известной степени противоцерковными. И это относится прежде всего к учению исихастов. Рассматривая исихазм, не следует выделять его из других умственных и религиозных течений того вре-мени. В частности, несмотря на вражду исихастов и их противников варлаамитов, в учении последних
«Сеи убо в Русиистеи земли град, нарицаемыи Муром. В нем же бе самодръжствуяи благо-верный князь, яко же поведаху, именем Павел. Искони же ненавидяи добра роду человечю, диавол всели неприазненнаго летящаго змиа к жене князя того на блуд».
Предвозрождение в русской литературе
Д.С. Лихачёв

9
также могут быть отмечены черты нового, как они могут быть отмечены и в собственно еретических движениях XVI в.—в болгарском богомильстве и русском стригольничестве.
Исихазм не был ересью в собственном смысле слова. Больше того, отдельные исихасты, и в первую очередь сам Евфимий Тырновский, деятельно боролись с ересями, но живая связь этого мистическо-го течения с неоплатонизмом, свободное отношение к обрядовой стороне религии, своеобразный мистический индивидуализм делали его предвозрожденческим явлением.
Мистицизм в истории общественных движений играл различную роль. Он был характерен для раннего Возрождения на Западе, служил выражением общественного протеста против подчинения личности церковным обрядам, свидетельствовал о стремлении человека к личным переживаниям помимо церкви. Характеризуя явления подобного рода несколько более позднего периода, Ф. Энгельс писал: «Революционная оппозиция феодализму проходит через все средневековье. Она выступает, соответственно условиям времени, то в виде мистики, то в виде открытой ереси, то в виде вооружен-ного восстания. Что касается мистики, то зависимость от нее реформаторов XIV века представляет собой хорошо известный факт...» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2–е изд., т. 7, с. 361).
Глава движения исихастов Григорий Палама трактует в своих сочинениях о душевных силах, о человеческих чувствах, внимательно анализирует внутреннюю жизнь человека. Палама обращает внимание на роль внешних чувств в формировании личности и учит, что чувственные образы проис-ходят от тела. Эти чувственные образы являются отображением внешних предметов, их зеркальным отражением. Содержание трактата Паламы «Олицетворение» составляет суд между душой и телом, заканчивающийся победой тела.
В сочинениях основоположников исихазма Григория Синаита и Григория Паламы развивалась система восхождения духа к божеству, учение о самонаблюдении, имеющем целью нравственное улучшение, раскрывалась целая лестница добродетелей. Углубляясь в себя, человек должен был победить свои страсти и отрешиться от всего земного, в результате чего он достигал экстатического созерцания, безмолвия.
В богословской литературе встречались сложные психологические наблюдения, посвященные разбору таких явлений, как восприятие, внимание, разум, чувство и т. д. Богословские трактаты раз-личали три вида внимания, три вида разума, учили о различных видах человеческих чувств, обсуждали

10
вопросы свободы воли и давали довольно тонкий самоанализ.Существенно, что эти трактаты не рассматривают все же человеческую психологию как целое, не
знают понятия характера. В них характеризуются отдельные психологические состояния, чувства и страсти, но не их носители.
Состав переводной литературы XIV и XV вв. на Руси очень характерен с точки зрения увлечения новыми темами. Это по преимуществу новинки созерцательно–аскетической литературы исихастов или сочинения, ими рекомендованные и им близкие. Здесь произведения Григория Синаита и Григо-рия Паламы, а также их жития, произведения патриарха Каллиста и Евфимия Тырновского, Филофея Синаита, Исаака Сирина, Иоанна Лествичника, Максима Исповедника, Василия Великого, Илариона Великого, Аввы Дорофея, инока Филиппа (его знаменитая «Диоптра»), Дионисия Ареопагита (иногда называемого Псевдо–Дионисием или Псевдо–Ареопагитом), Симеона Нового Богослова и др.
Печать интереса к христианско–аскетическим темам лежит и на переводных произведениях напо-ловину светского характера, распространившихся на Руси именно в это время: на сербской сильно хри-стианизованной «Александрии», на «Стефаните и Ихнилате», на апокрифической литературе и т. д.
В России исихазм оказывал воздействие главным образом через Афон. Центром новых настроений на Руси стал Троице–Сергиев монастырь, основатель которого Сергий Радонежский, «божественные

11
сладости безмолвия въкусив», был исихастом. Из этого монастыря вышли главный представитель нового литературного стиля Епифаний Премудрый и главный представитель нового течения в жи-вописи Андрей Рублев (безмолвная беседа ангелов—основная тема рублевской иконы «Троицы»). Исихазм не мог бы оказать такого влияния, если бы к этому не было достаточных предпосылок в самом русском обществе. Проникновению в русскую литературу психологизма, эмоциональности и особой динамичности стиля способствовали перемены, происшедшие в XIV—XV вв.
Структура человеческого образа в русской литературе предшествующего периода, в XII—XIII вв., была теснейшим образом связана с иерархическим устройством общества. Люди расценивались по их положению на лестнице общественных отношений. Каждый из изображаемых был прежде всего представителем своего социального положения, своего места в феодальном обществе. Его поступки рассматривались прежде всего с этой точки зрения.
Новое отношение к человеку появляется в русской литературе в конце XIV в. Для XIV—XV вв. харак-терен идейный кризис феодальной иерархии. Самостоятельность и устойчивость каждой из ступеней иерархии были поколеблены.
Князь мог перемещать людей в зависимости от их внутренних качеств и личных заслуг. Центро-стремительные силы начинали действовать все сильнее, развивалось условное держание землей, на сцену выступали представители будущего дворянства. Государству нужны были люди, до конца преданные ему,—личные качества их выступали на первый план: преданность, ревность к делу, убеж-денность... Все это облегчило появление новых художественных методов в изображении человека, по самому существу своему не связанного теперь с иерархией феодалов. Интерес к внутренней жизни, резко повышенная эмоциональность как бы вторглись в литературу, захватили писателей и увлекли читателей.
Это развитие психологизма, эмоциональности было связано также и с развитием церковного начала в литературе. В отличие от светских жанров (летописей, воинских повестей, повестей о феодальных раздорах и т. д.) в церковных жанрах (в житиях и проповеди) всегда уделялось гораздо большее внимание внутренней жизни человека, его психологии. Союз церкви и государства способствовал постепенному «оцерковлению» всех жанров. Особенно усиливается в литературе церковное начало с того времени, как среди монголо–татарских орд распространилось магометанство. Борьба с игом
«... имяше же у себе приснаго брата, князя Пе-тра; во един же от днии прзва к себе и нача ему поведати змиевы речи, яко же рекл есть к жене его».

12
становится не только национальной, но и религиозной задачей. Татары в летописи конца XIV—XV вв. постоянно называются агарянами, измаилтянами, сарацинами, как назывались именно магометане.
Интерес к человеку и человеческой психологии, сказавшийся в Византии и южнославянских стра-нах и подготовленный на Руси социально–политическими изменениями, привел к образованию во всех этих странах единого литературного направления, тесно связанного с идеями и настроениями Предвозрождения.
Во всех странах, поддерживавших между собою тесное культурное общение,—в Византии, на Руси, в Сербии и в Болгарии—возникает своеобразное единое литературное направление. Вырабатывается жанр витиеватых и пышных похвал, первоначально обращенных к славянским святым, покровитель-ствовавшим победам соотечественников. В Сербии новый стиль сказывается уже в произведениях Доментиана, Феодосия и Даниила. В Болгарии эти первые похвалы составляются Иоанну Рыльскому и Илариону Мегленскому; в России новое литературное направление отчетливо сказывается в «Жи-тии митрополита московского Петра», составленном переехавшим на Русь болгарином, московским митрополитом Киприаном. Особенно пышного расцвета этот стиль достигает в житиях Стефана Перм-ского и Сергия Радонежского, принадлежащих перу замечательного писателя конца XIV—начала XV в. Епифания Премудрого. Новый стиль заявляет о себе и в переводах исторических произведений (в «Хронике» Манассии, в «Троянской истории» и др.).
Новое литературное движение выработало литературные вкусы, определившие форму и содер-жание литературных произведений двух ближайших столетий. Оно опиралось на особые работы по грамматике, стилистике, по выработке сложной книжной литературной речи. Оно было связано с попытками унифицировать орфографию, самый почерк рукописей и с громадной переводческой работой: на славянские языки делались многочисленные переводы с греческого, пересматривались и исправлялись старые переводы.
В результате всего этого огромного совместного труда славянских ученых были выработаны лите-ратурные принципы, способные передать пышность, торжественность тем и подъем чувств своего времени и отразившие интерес к человеческой психологии.
Новая литературная школа привела к усиленному развитию литературного языка, к усложнению синтаксиса, к появлению многих новых слов, в особенности для выражения отвлеченных понятий.
«Яви же ся ему отроча, глаголя: „Княже! Хо-щеши ли, да покажу ти Агриков меч?” Он же хотя желание свое исполнити, рече: „Да вижу, где есть!” Рече же отроча: „Иди во след мене”. И показа ему во отларнои стене между керемида-ми скважню, в ней же лежаще мечь».

13
В этом росте русского литературного языка стираются местные, областные различия и создается конкретная почва для объединения всей русской литературы. С трудами представителей нового ли-тературного направления литература и книжность окончательно теряют черты феодально–областной ограниченности и укрепляются их связи с литературами южных славян.
Новый литературный стиль XIV—XV вв. получил в научной литературе не совсем точное название «плетение словес». Первоначальный смысл этого выражения—«плетение словесных венков», т. е. создание похвал, но потом это выражение приобрело смысл создания словесной орнаментики.
«Плетение словес» основано на внимательнейшем отношении к слову: к его звуковой стороне (аллитерации, ассонансы и т. п.), к этимологии слова (сочетания однокоренных слов, этимологически одинаковые окончания), к тонкостям его семантики (сочетания синонимические, тавтологические и пр.),—на любви к словесным новообразованиям, составным словам, калькам с греческого. Поиски слова, нагромождения эпитетов, синонимов исходили из представления о тождестве слова и сущ-ности божественного писания и божественной благодати. Напряженные поиски эмоциональной выразительности,
стремление к экспрессии основывались на убеждении, что житие святого должно отразить части-цу его сущности, быть написанным «подобными» словами и вызывать такое же благоговение, какое вызывал и он сам. Отсюда—бесконечные сомнения авторов в своих литературных способностях и полные нескрываемой тревоги искания выразительности, экспрессии, адекватной словесной пере-дачи сущности изображаемого.
Стиль второго южнославянского влияния отразился только в «высокой» литературе Средневековья, в литературе церковной по преимуществу. Основное, к чему стремятся авторы произведений высокого стиля, это найти общее, абсолютное и вечное в частном, конкретном и временном, «невещественное» в вещественном, христианские истины во всех явлениях жизни. Из высоких литературных произведений по возможности изгоняется бытовая, политическая, военная, экономическая терминология, названия должностей, конкретных явлений природы данной страны, некоторые исторические упоминания и т. д. Если приходится говорить о конкретных политических явлениях, то писатель предпочитает называть их, не прибегая к политической терминологии своего времени, а в общей форме, предпочитает вы-ражаться о них описательно, давать названия должностей в их греческом наименовании, прибегает

14
к перифразам и т. д.: вместо «посадник»—«вельможа некий», «старейший», «властелин граду тому», вместо «князь»—«властитель той земли», «стратиг» и т. д. Изгоняются собственные имена, если дей-ствующее лицо эпизодично: «человек един», «мужь некто», «некая жена», «некая дева», «негде в граде». Прибавления «некий», «некая», «един» служат изъятию явления из окружающей бытовой обстановки, из конкретного исторического окружения.
Абстрагирование поддерживается постоянными аналогиями из библейских книг, которыми сопро-вождается изложение событий жизни святого. Аналогии заставляют рассматривать жизнь святого под знаком вечности, видеть во всем только самое общее, всюду искать наставительный смысл. Для «высокого» стиля Средневековья характерны трафаретные сочетания, привычный «этикет» выраже-ний, повторяемость образов, сравнений, эпитетов, метафор и т. д.
Стиль русской церковной литературы времени второго южнославянского влияния вносит в эту абстрагирующую тенденцию чрезвычайно сильную и характерную особенность: до экзальтации по-вышенную эмоциональность, экспрессию, сочетающуюся с абстрагированием, отвлеченность чувств, приложенную к отвлеченности богословской мысли.
Авторы стремятся избежать законченных определений и характеристик. Они подыскивают слова и образы, не удовлетворяясь найденными. Они без конца подчеркивают те или иные понятия и явления, привлекают к ним внимание, создают впечатление невыразимой словами глубины и таинственности явления, примата духовного начала над материальным. Зыбкость материального и телесного при повторяемости и «извечности» всех духовных явлений—таков мировоззренческий принцип, становя-щийся одновременно и принципом стилистическим. Этот принцип приводит к тому, что авторы широко прибегают и к таким приемам абстрагирования и усиления эмфатичности, которые с точки зрения нового времени могли бы скорее считаться недостатком, чем достоинством стиля: к нагромождени-ям однокоренных слов, тавтологическим сочетаниям и т. д. Таковы соединения однокоренных слов: «начинающему начинание», «устрашистеся страхом», «запрещением запретить», «учить учением» и т. д. Некоторые из подобных однокоренных сочетаний свойственны русскому языку вообще, однако в ряде случаев намеренность однокоренных сочетаний видна вполне ясно: «насытите сытых до сытости, накормите кръмящих вас, напитайте питающих вы».
Говоря о сочетаниях однокоренных слов, мы должны сказать и еще об одном явлении, связанном

15
с этим,—о своеобразной игре слов, их «извитии». Эта игра слов должна была придать изложению значительность, ученость и «мудрость», заставить читателя искать «извечный», тайный и глубокий смысл за отдельными изречениями, сообщить им мистическую значительность. Перед нами как бы священнописание, текст для молитвенного чтения, словесно выраженная икона, изукрашенная сти-листическими драгоценностями. «Печаль приат мя и жалость поят мя»—говорит о себе автор «Жития Сергия Радонежского». Одна из добродетелей того же святого—«простота без пестроты». Ту же игру созвучиями, придающими речи особую афористичность, представляют и следующие примеры: «чадо Тимофее, внимай чтению и учению и утешению»; «один инок, един възединенный и уединяяся, един уединенный, един единого бога на помощь призывая, един единому богу моляся и глаголя».
Все эти приемы не способствуют ясности смысла, но придают стилю повышенную эмоциональность. Слово воздействует на читателя не столько своей логической стороной, сколько общим напряжением таинственной многозначительности, завораживающими созвучиями и ритмическими повторениями. Жития этого времени пересыпаны восклицаниями, экзальтированными монологами святых, абстраги-рующими и эмфатическими нагромождениями синонимов, эпитетов, сравнений, цитат из библейских книг и т. д. Авторы житий постоянно говорят о своем бессилии выразить словом всю святость святого, пишут о своем невежестве, неумении, неучености, молятся о даровании им дара слова, сравнивают себя с неговорящим младенцем, со слепым стрелком; то признают свою речь «неудобренной», «неу-строенной» и «не ухищренной», то приравнивают свою работу к хитрой работе паука, при этом сами слова оказываются дороже «тысящь злата и серебра», дороже «камени сапфира» и слаще меду. Тем же поискам слова отвечают и неологизмы, стремление к которым особенно усилилось в XIV и XV вв. Эти неологизмы необходимы писателям, с одной стороны, потому, что такие лексические образования не обладают бытовыми ассоциациями, подчеркивают значительность, «духовность» и «невыразимость» явления, а с другой стороны, будучи по большей части составлены по типу греческих, придают речи «ученый» характер; «зломудрец» и «злоначинатель», «нищекръмие», «многоплачие», «бесомолцы», «горопленный», «волкохищный», «благосеннолиственный». Неологизмы XIV—XV вв. вовсе не свиде-тельствуют о стремлении писателей этого времени к новизне выражения, они и воспринимаются не как нечто новое в языке, а как выражения ученые, усложненные и «возвышенные».
Как ни относиться к художественным целям, которые ставили себе авторы житийно–панегирических произведений конца XIV—XV вв., необходимо все же признать, что они видели в своей писательской
«И взем мечь, нарицаемыи Агриков, и прииде в храмину к сносе своеи и виде змиа зраком аки брата си и твердо уверися, яко несть брат его, но прелестныи змии, и удари его мечем. Змии же явися, яков же бяше и естеством, и нача тре-петатися и бысть мертв и окропи блаженнаго князя Петра кровию своею.»

16

17

18
«Он же от неприазнивыя тоя крови остурпе, и язвы быша, и прииде нань болезнь тяжка зело. И искаше в своем одержании ото мног врачев исцелениа, и ни от единого получи.»

19

20
работе подлинное и сложное искусство, стремились извлечь из слова как можно больше внешних эффектов, виртуозно играя словами, создавая разнообразные, симметрические сочетания, вычурное «плетение словес», словесную «паутину».
Новый стиль ответил новому содержанию—в первую очередь житийной литературы. В житийной литературе конца XIV—начала XV в. все движется, все меняется, объято эмоциями, до предела обо-стрено, полно экспрессии. Авторы как бы впервые заглянули во внутренний мир своих героев, и внутренний свет их эмоций как бы ослепил их, они не различают полутонов, не способны улавливать соотношение переживаний. До крайней степени экспрессии доводятся не только психологические состояния, но и поступки, действия, события, окружающиеся эмоциональной атмосферой. Стефан Пермский, рассказывает о нем Епифаний Премудрый, сокрушает идолов, не имея «страхования». Он сокрушает их «без боязни и без ужасти», день и ночь, в лесах и в полях, без народа и перед народом. Он бьет идолов обухом в лоб, сокрушает их по ногам, сечет секирою, рассекает на члены, раздробля-ет на поленья, крошит на «иверения» (щепки), искореняет их до конца, сжигает огнем, испепеляет пламенем...
Все чувства обладают неимоверной силой. Любовь к Кириллу Белозерскому влекла к нему Пахомия Серба, подобно железной цепи. Дружба Сергия Радонежского и Стефана Пермского связывает их с такою силою, что они чувствуют приближение друг к другу на далеком расстоянии.
Первостепенное значение приобретает даже не сам поступок, подвиг, а то отношение к подвигу, которое выражает автор, эмоциональная характеристика подвига, всегда повышенная, как бы пре-увеличенная и вместе с тем абстрактная. Преувеличиваются самые факты, зло и добро абсолютизи-рованы, никогда не выступают в каких–либо частичных проявлениях. Только две краски на палитре автора—черная и белая. Отсюда пристрастие авторов к различным преувеличениям, к экспрессивным эпитетам, к психологической характеристике фактов. Весть о смерти Стефана «страшная», «простран-ная», «пламенная», «горькая» и т. д.
Новое в изображении человека может быть отмечено не только в житиях святых. Жанр житий только наиболее характерен для этого времени. Особое значение в развитии литературного психологизма имеет «Русский хронограф»—памятник самого начала XVI в., очень близкий по стилю, хотя и не тож-дественный, русским житиям Епифания Премудрого.
«Един же от предстоящих ему юноша улони-ся в весь, нарицающу(ю)ся Ласково. И прииде к некоего дому вратом и не виде никого же. И вниде в дом, и не бе, кто бы его чюл».

21
Экспрессивный стиль в литературе сталкивается со стилем сдержанным и умиротворенным, от-нюдь не шумным и возбужденным, но не менее психологичным, вскрывающим внутреннюю жизнь действующих лиц, полным эмоциональности, но эмоциональности сдержанной и глубокой.
Если первый, экспрессивный, стиль близок к горячему и динамичному творчеству Феофана Грека, то второй стиль—стиль сдержанной эмоциональности—близок вдумчивому творчеству знаменитых русских художников Андрея Рублева и Дионисия.
Ни живописный идеал человека, ни литературный не развивались только в пределах своего ис-кусства. Идеал человека создавался в жизни и находил себе воплощение в литературе и живописи. Этим объясняется то общее, что есть между видами искусства в изображении идеальных человеческих свойств.
Творчеству Андрея Рублева и художников его круга на рубеже XIV—XV вв., а также Дионисия на рубеже XV—XVI вв. в русской
литературе начала XVI в. может быть подыскано соответствие в «Повести о Петре и Февронии Му-ромских», рассказывающей о любви князя Петра и простой крестьянской девушки Февронии—любви сильной и непобедимой, «до гроба».
Буря страстей, поднятая в литературе произведениями Епифания и Пахомия Серба, в «Повести о Петре и Февронии», сменилась тишиной умиротворенного самоуглубления, эмоциональностью, от-вергнувшей всякую эффективность. Феврония подобна тихим ангелам Рублева. Она «мудрая дева» сказочных сюжетов. Внешние проявления ее большой внутренней силы скупы. Она готова на подвиг самоотречения, победила свои страсти. Ее любовь к князю Петру потому и непобедима, что она по-беждена внутренне ею самой, подчинена уму. Вместе с тем ее мудрость—свойство не только ума, но в такой же мере—ее чувства и воли. Между ее чувством, умом и волей нет конфликта; отсюда необыкновенная «тишина» ее образа.
Необходимо отметить, что «Повесть о Петре и Февронии», возникшая, как можно предположить, в своей основе не позднее второй четверти XV в., но получившая окончательное оформление в начале XVI в. под пером Ермолая Еразма, тесно связана с фольклором.
Первое появление в повести девушки Февронии запечатлено в зрительно отчетливом образе. Ее нашел в простой крестьянской избе посланец муромского князя Петра, заболевшего от ядовитой крови

убитого им змея. В бедном крестьянском платье Феврония сидела за ткацким станком и занималась «тихим» делом—ткала полотно, а перед нею скакал заяц, как бы символизируя собой слияние ее с природой. Ее вопросы и ответы, ее тихий и мудрый разговор ясно показывают, что «рублевская за-думчивость» не бездумна. Феврония изумляет посланцев своими вещими ответами и обещает помочь князю. Сведущая в целебных снадобьях, она излечивает князя, как в романе о Тристане и Изольде Изольда излечивает Тристана, зараженного кровью убитого им дракона.
Несмотря на социальные препятствия, князь женится на крестьянской девушке Февронии. Как и любовь Тристана и Изольды, любовь Петра и Февронии преодолевает иерархические преграды феодального общества и не считается с мнением окружающих. Чванливые жены бояр невзлюбили Февронию и требуют ее изгнания, как вассалы короля Марки требуют изгнания Изольды. Князь Петр отказывается от княжества и уходит вместе с женой.
Животворящая сила любви Февронии так велика, что жердья, воткнутые в землю, по ее благослове-нию расцветают, превращаясь в деревья. Крошки хлеба в ее ладони обращаются в зерна священного ладана. Она настолько сильна духом, что разгадывает мысли встреченных ею людей. В силе своей любви, в мудрости, как бы подсказываемой ей этой любовью, Феврония оказывается выше своего идеального мужа—князя Петра.
Их не может разлучить сама смерть. Когда Петр и Феврония почувствовали приближение смерти, они стали просить у бога, чтобы он дал им умереть в одно время, и приготовили себе общий гроб. По-сле того они приняли монашество в разных монастырях. И вот, когда Феврония вышивала для храма богородицы «возду́х» (покров для святой чаши), Петр послал ей сказать, что он умирает, и просил ее умереть вместе с ним. Но Феврония просит дать ей время дошить покрывало. Вторично послал к ней Петр, велев сказать: «Уже мало пожду тебя». Наконец, посылая в третий раз, Петр говорит ей: «Уже хочу умереть и не жду тебя». Тогда Феврония, которой осталось дошить лишь одну ризу святого, воткнула в покрывало иглу, обвертела вокруг нее нитку и послала сказать Петру, что готова умереть с ним вместе. Так и Тристан оттягивает час кончины. «Срок близится,—говорит Тристан Изольде,—разве мы не испили с тобою все горе и всю радость. Срок близится. Когда он настанет и я позову тебя, Изольда, придешь ли ты?»—«Зови меня, друг,—отвечает Изольда,—ты знаешь, что я приду».
После смерти Петра и Февронии люди положили их тела в отдельные гробы, но на следующий день
«И вниде в храмину и зря видение чюдно: си-дяше бо едина девица, ткаше красна, пред нею же скача заець.»

23

62
нической» повести также служит примером для благочестивых читателей. И доминирующей темой становится в ней тема ума и разума, которыми наделяет автор соответственно: мудрую и смиренную Февронию и мужественного и самовластного князя Петра.
Автор «Повести о Петре и Февронии Муромских» призывает читателей, чтобы «во Христа крестив-шиеся, во Христа облекшиеся», не отступали от заповедей Его, «яко же лестцы и блазнители (лжецы и обманщики) по крещении оставльше заповеди Божия и лстяще ся (прельстились) мира сего красота-ми». Ермолай–Еразм напоминает слова апостола Павла: «Не будите раби человеком, куплени бо есте ценою»,—страданиями Сына Божиего. «Но яко же святии пророцы и апостоли, тако же и мученицы и вси святии, Христа ради страдавше в скорбех, в бедах, в теснотах, в ранах, < …> в чищениих, в разуме, в долготерпении, во благости, в дусе святе, в любви нелицемерне, в словеси истинне, в силе Божии,—иже сведоми суть Единому, ведущему тайны сердечныя» пребывали Такими праведниками Господь землю просветил, «яко же небо звездами украси», и почтил их даром чудотворений—одних ради молитв, и покаяния, и трудов их, других—«мужества ради и смирения, яко же сих святых про-славил», о которых «нам слово предлежит».
IIСюжетное повествование начинается с указания места действия. В Русской, то есть православной,
земле есть город, называемый Муром. Был же в нем когда–то, как поведали, самодержавный благо-верный князь именем Павел.
Автор указывает имя князя и подчеркивает, что был он самодержавным, то есть самовластным, нико-му не подчиняющимся князем. Хотя исторически так складывалось, что Муромское княжество зависело в конце XII–XIII вв. от своих более могущественных соседей: Владимирского или Рязанского княжеств. Но автору важно было подчеркнуть, что Павел был независимым и благоверным князем—слугой Бо-жиим, как и должно быть князю. Если княжеская власть от Бога, то и княжеское служение—мирское служение Богу: защита отечества, православной веры и народа своего.
Препятствует этому служению искони ненавидящий добро и род человеческий дьявол. Не имея возможности уязвить самого князя (он—благоверный, т.е. пребывающий в вере), дьявол пытается действовать через его жену, его единую плоть, поскольку венчанные муж и жена являют собой одно целое: «...Ни мужъ безъ жены, ни жена безъ мужа, въ Господе. Ибо какъ жена отъ мужа, такъ и мужъ
«И яко убу скончавшуся обеду, она же, яко же обычаи имяше, взем от стола крохи в руку свою.»

63
чрезъ жену; все же—отъ Бога» (1 посл. Коринф.11, 11–12). А потому, как когда–то в раю прельстил Адама через Еву, подослав к ней змея, и теперь посылает к жене князя Павла «неприязненного» летающего змея–оборотня—на блуд. Всем приходящим людям являлся он в образе князя Павла, и только перед женой его представал в своем естестве. Жена, как замечает автор, не утаила случившегося (это—не тайный порок!), но поведала обо всем, прежде всего, князю, как мужу своему. То есть, не мужу–князю, а самодержцу, правителю княжества, защитнику подданных, главе, а потом уже мужу!
Князь Павел, оценивая силу противника, задумался, что бы такое змею сотворить, «но недоумеяше-ся», о чем и признается жене: «Мыслю жено, но недоумеюся, что сотворити неприязни тому? Смерти убо не вем, каку нанесу на нь?». Автор дважды подчеркивает, что князь, полагаясь только на свои силы, а не на помощь Бога (без которой не победить дьявола!), «недоумеет», как извести врага, т.е. ему недостает ума—духовной сущности, чтобы победить змея. А потому хитростью (т.е. разумом) решает выведать у самого «неприязливого духом своим» отчего ему может смерть случиться? И поручает это выполнить своей жене, и тем спасти себя.
Рака с мощами святых Петра и Февронии в Муромском Свято–Троицком монастыреВины княгини в том нет, что змей к ней летает. Не по ее воле это творится. Она—верная жена, ничего
не скрыла от мужа. И ее избавление от змея («злаго его дыханиа и сипения и всего скарядия») в этом мире, а также спасение души в будущем веке всецело зависит от нее: если она узнает тайну смерти змея и поведает ее князю–мужу. Именно поэтому жена слова мужа своего в сердце с твердостью приняла и «умысли во уме своем: «Добро тако быти». В этом «добро тако быти» («хорошо, чтобы так и было») два смысла: хорошо, если бы она смогла узнать тайну смерти змея, и хорошо, если бы она обрела избавление и спасение от лукавого. И подумала она так «во уме», т.е. в сердце, душою, но не разумом. Речь ведь идет о спасении души.
Поскольку княгиня смиренна пред мужем, ей достает ума оценить ситуацию.Осознав свою задачу, и «добру память при сердцы имея» о словах князя, жена «глаголъ с лестию
предлагает к неприязни той», расставляя хитроумную ловушку: между многих иных речей, хваля змея, «с почтением вопрошает» о тайне кончины его. И «неприязнивый прелестник прелщен добрым прел-щением от верныя жены», он признается: «Смерть моя есть от Петрова плеча, от Агрикова же меча».
Змей перехитрен «добрым прелщением». Что значит «добрым»? Это эпитет качества обмана, или

64

65

66
«Они же, неистовии, наполнившеся безстудиа, умыслиша, да учредят пир. И сътвориша. И егда же быша весели, начаша простирати безстуд-ныя своя гласы, аки пси лающе, отъемлюще у святыя божий дар, его же еи бог и по смерти неразлучна обещал есть».

67

68
«...иже аще пустит жену свою, развие словеси прелюбодеинаго, и оженится иною, прелюбы творит»
оправдание его, ибо исходит этот обман от верной жены?! Автор дает возможность самому читателю разобраться в этом.
Поскольку повествование сосредоточено вокруг темы ума, то она явственно присутствует уже в первой главе, но на «земном»—человеческом—уровне. Дважды говорится, что князь Павел «недоумея-шеся» о смерти змея (первый раз об этом сообщает автор, другой раз—признается сам князь). Жена же его—«умысли во уме своем» избавиться от змея и обрести спасение души (конечная цель любого христианина), для чего в сердце твердо сохранила (а сердце—обитель души) услышанное признание лукавого и поведала князю, мужу своему, что сказал ей змей. Но и тут князь Павел в третий раз «не-доумеяшеся»: как разгадать загадку, «что есть смерть от Петрова плеча и от Агрикова меча?»
Не о Павле–князе Промысл Господень, не ему и загадку разгадывать.На правах самодержца и старшего брата Павел не позвал своего младшего брата—кроткого князя
Петра, а призвал и поведал ему речи змея. Происходит разговор сюзерена и вассала. Действовать при-дется не самодержцу, а его подчиненному. Хотя и подчиненный не простой вассал. Он—самовластный князь и ему принимать окончательное решение.
Князь Петр, не испытывая недостатка в необходимом мужестве для подвига, легко разрешает разумом первую загадку, что ему предназначено убить змея, но вот мыслей по поводу второй—об Агриковом мече—у него не было.
Был он молитвенником и любил уединенную молитву в загородной церкви женского Крестовозд-виженского монастыря. Поскольку юный князь благочестив, Господь, через отрока–ангела помогает решить ему и вторую задачу—раздобыть заветный меч.
Существенно, что Агриков меч князь Петр обретает в алтаре (сакральном месте, куда доступ открыт только избранным!) церкви Воздвижения честного и животворящего[5] креста. Ибо только крестом и можно побороть дьявола. Крест—символ спасения. Животворящий крест—жизнь дающий и в этом веке, и в будущем.
Эти, на первый взгляд, незаметные детали предваряют последующее повествование.Князь Петр являет смирение. Со смирением следует за отроком (каково услышать князю повели-
тельное: «Иди вслед мене!», то есть, «Следуй за мной!»), со смирением ежедневно приходит он к брату и снохе, «скарядием» (позором, бесчестием) задетую, поклониться! Нет и тени осуждения снохи: не

69

72
Их разговор—праобраз будущего «соперничества» князя и Февронии.Интересно, что автор устами отрока говорит о болезни князя и язвах как вещах обособленных:
«Князь же мой имея болезнь тяжку и язвы. Острупленну бо бывшу ему от крови неприязниваго летя-щаго змия, его же есть убил своею рукою».
Автор так строит фразу, что можно подумать, что не язвы явились причиной болезни. Тогда что?Не отроку дано это знать, но Февронии. Она, зная, и ведет с юношей о князе разговор, в котором
отрок ничего сам понять не может. Так ведь и слова ее не ему и адресованы, а князю. Его задача их только передать точно, а как это сделать, если он ничего не понимает? Феврония в очередной раз озадачивает юношу: «Аще бы кто требовал князя твоего себе, мог бы уврачевати и (его)». То есть, вы-лечить от язв (но не исцелить—большая разница; к исцелению путь долог!) может тот, кто потребует князя себе!
Какое же право надо на то иметь, чтобы даже не просить, а требовать самого князя—властителя—себе?! Стало быть, у князя, самовластного от рождения, может появиться кто–то, способный подчинить его себе?!.. По какому праву? Отрок недоумевает: «Что убо глаголеши, еже кому требовати князя моего себе!» (Характерно это «моего»—«себе» в устах преданного отрока!). Пока это загадка не только для юноши, но и для читателя.
Отрок спрашивает имя мудрой девушки и имя врача, способного излечить князя: «Повежь ми имя свое»; «Но скажи ми имя врача того…». И Феврония ему отвечает: «Имя ми есть Феврония»,—что нельзя переводить, как это сделал Л.А.Дмитриев: «Зовут меня Феврония».
Имя и как зовут—не суть одно и то же. Имя дается при крещении, у него есть святой небесный по-кровитель. Звать могут мирским именем (князей) или мирским прозвищем. Отрок же интересуется крестильным, христианским именем, ибо не знахаря, не колдуна ищет, не простого врачевателя, а целителя. Подразумевается, конечно, духовного целителя, но пока об этом автор не обмолвился (разве только обозначил намеками), это станет понятным только в следующей части повести. К тому же, в имени Февронии (с греч.) скрыт существенный для понимания повести смысл: видение вечное (который только усиливается значением имени Давид—возлюбленный, принятым Петром позднее, при уходе в монастырь).
Феврония не то, чтобы игнорирует вопросы юноши. Свои ответы–загадки она через него как бы

73
адресует кому–то другому: сам отрок до них умом не дорос. До поры было не ясно, кому; теперь же, когда она высказала требования к душевным качествам князя («Аще будет мяхкосердъ и смирен во ответех, да будет здрав!»[8] ), стало понятным, от кого она предполагает получить ответы.
События обретают странный оборот: не князь, самодержец, ставит условие, а простая девушка! Он должен явить мягкость сердца и смирение, а не гордыню. Это—путь к исцелению, а не просто к выздоровлению. Но понимает, пока, это одна Феврония.
Она готова подвергнуть испытанию князя. А ведь ее, как лекаря, по логике вещей, должны были испытать. «По логике вещей» и развивается действие повести—внешнее, связанное с князем Петром. Но куда более важно не явное ее развитие, связанное с Февронией. Два героя движутся навстречу друг другу: князь Петр—физически, движимый недугом; Феврония—мысленно, духовно провидя будущее мудростью своею.
Не подобает девице идти первой к жениху. Жених должен вначале посвататься.Не подобает и князю ехать к подчиненному, тем более, если он болен. Будь лекарь мужчина—
доставили бы к князю. Оказалось—мудрая девица, нашли компромисс. Князь к дому приехал ее, а в дом слугу послал—с вопросами о лекаре. А итог разговора—как от сватовства: речь зашла о супру-жестве, воспринятом отроком и князем, как условии Февронии.
Примечательна двусмысленность, которую допускает автор в разговоре князя (через отрока) с Фев-ронией: «Повеж ми, девице, кто есть хотя мя уврачевати?» Отвечает ему Феврония: «Аз есмь хотя и (его) врачевати». Как тут понимать глагол «хотя»? Он встречается и в начале повести: «…От чего ему смерть хощет быти?». То есть, «хощет быти»—будет в будущем. Тогда, по аналогии, «хотя уврачевати»—вылечит в будущем, т.е. может вылечить. Такой, видимо, первоначальный смысл выражения—древнерусский. Но дополняется он желанием Февронии вылечить князя, и получается другой совершенно оттенок: Феврония не только может вылечить Богом ей суженого, но и хочет это сделать. Кажется, ради замуже-ства. В своем переводе Л.А.Дмитриев так и понимал это желание Февронии: «Я хочу его вылечить…», но «…если я не стану супругой ему, то не подобает мне[9] и лечить его».
Переводчик не заметил, что здесь кроется очередная—мудрая—загадка Февронии: не стать су-пругой князю она хочет, а спрашивает самое себя, сможет ли быть («имам быти») супругой ему! Из субъекта действия (возьмут ли ее в жены), она превращается в объект действия: сможет ли она сама
«Некто же бе человек у блаженныя княгини Февронии в судне, его же и жена в том судне бысть. Тои же человек, приим помысл от лука-ваго беса, възрев на святую с помыслом.»

76
мол, не ровня дочь бортника ему. Вторично, когда после выздоровления уже не захотел взять ее в жены (опять таки!) из–за ее происхождения, и послал ей, в качестве откупного, дары. Но она, как ранее и предупреждала, не приняла их. Хоть и бедная девушка, но за богатствами не гналась—не в них счастье.
Феврония—смиренна. Она сдержала свое слово и в большом—вылечила князя, и в малом—в качестве платы богатства не взяла.
Князь Петр не сдержал своего княжеского слова: обещал по излечении взять целительницу в жены (в этом и было бы его смирение!), но не взял. При первом взгляде кажется, что и тут князь уступил (уже в благородстве) Февронье, ведь не подобает князю нарушать данное слово. Но и мудрой деве не приличествует обман, даже если он вызван осторожностью! Феврония, ведь, проявила недоверие к князю, предусмотрела обман с его стороны, и, выходит, схитрила: до конца–то его не вылечила?! Струп, от которого опять пойдет болезнь, оставила! А раз так, то тогда и князь своего слова не на-рушил, ведь до конца–то он излечен не был! Стало быть, в выполнении обязательств—исполнении своих обещаний—герои оказались на равных?
В скором же времени ситуация повториться, и герои должны будут уже проявить другие свои качества.
«Здравствуяи»,—как говорит автор повести, поехал князь Петр в отчину свою, город Муром. Чувству-ется торжество в возвращении выздоровшего героя, победителя змея, в родной город. Наконец–то избавился он от всех напастей: и змея убил, и от язв излечился. Добился намеченной цели. Но не тут–то было. Намеченной цели не добилась Феврония. И Божественный Промысл не сбылся. Не была она обманщицей и не собиралась хитрить и лукавить: она испытывала князя—мужа ведь себе выбирала, княжескую гордыню побороть хотела ради спасения его души.
От оставшегося струпа болезнь быстро возродилась, причина то ее не устранена! Сердце князя не стало смиренным. Интересно, что новое распространение язв и струпьев началось только с того, но первого же дня, в который он выехал домой. И князю ничего не оставалось как снова «возвратися на готовое исцеление к девицы». Но на сей раз, автор это особо подчеркивает, уже на « готовое ис-целение», т.е. на уже ожидающее его!
Ситуация повторяется, но князь ведет себя совершенно по иному, соответственно и Феврония.

Вернувшись к дому ее он «со студом», т.е. со стыдом посылает к ней, и уже не приказывает лечить, а просит врачевания. Болезнь привела князя Петра ко смирению. Феврония же без гнева и гордыни приняла княжеское извинение, ибо ожидала его. Но уже, зная Божественный Промысл о них, по иному ставит условие: «Аще будет ми супружник, да будет уврачеван». Конечный результат вроде бы тот же, да смысл иной. На сей раз, Феврония заняла главную позицию: не она станет ему женой, а он должен стать ее мужем. Если раньше, казалось, инициатива в руках князя, а Феврония могла только робко поставить условие, которое просто проигнорировал князь, то теперь она твердо его диктует, ибо творит Божественную волю. И если прежде князь просто пообещал жениться на ней, не чувствуя этой Божественной воли о себе, то на сей раз «дасть ей с твердостию слово». И получив исцеление (не просто тела, но души—кротостью и смирением!), «поят ю (ее) жену себе». «Такою же виною бысть Феврония княгини»,—замечает автор. Свершился промысл о них: не послал бы Господь в качестве испытания князю болезнь, не нашел бы тот себе супруги в лице дочери древолаза…
«Приидоста же во отчину свою, град Муром, и живяста во всяком благочестии, ничто же от Божиих заповедей оставляюще».
Последняя фраза—венец главе: по заповедям Божиим зажили супруги и во всяческом благочестии. Как и должно быть, за что и награду от Бога получат.
По малому времени старший из братьев князь Павел отошел в мир иной, и князь Петр остался единовластным самодержцем в своем городе.
Не имела Феврония той власти над князем–мужем, как жены боярские над своими мужьями. Не могли они смириться с княгиней–простолюдинкой, по своему положению призванной править ими. Вот и стали они досаждать своим мужьям, пока те не решились выразить свое неудовольствие князю. А вот Бог, в отличие от завистливых людей, стал прославлять Февронию за ее доброе и благочестивое житье.
Лучший способ настроить против жены—посеять сомнение у самого князя относительно Февронии, мол, не может «по чину», т.е. по этикету, себя вести: после обеда, подымаясь из–за стола, собирала она в ладошки хлебные крошки, будто простолюдинка голодная! Князь решил проверить, стало быть, усомнился в жене своей, соблазнился по боярскому наговору. После совместной трапезы, когда, по обычаю своему, Феврония собрала в горсть крошки, разогнул он ее пальцы, а там—ладан и фимиам
«Блаженныи же князь Петр яко помышляти начат: „Како будет, понеже волею самодержъ-ства гоньзнув?” Предивная же Феврониа гла-гола ему: „Не скорби, княже, милостивыи бог, творец и промысленник всему, не оставить нас в нищете быти!”»

82
А тело святой княгини Февронии, тоже в отдельном гробу, оставили в церкви Воздвижения честного и животворящего креста. Общий же гроб остался стоять в соборной Богородичной церкви.
Наутро же люди нашли отдельные гробы, в которые накануне положили тела святых, пустыми, а святые тела Петра и Февронии обрели в соборной церкви Пречистой Богородицы, в общем их гробе, который сами повелели себе сделать.
«Люди же неразумные» не задумались о произошедшем чуде, не вспомнили слова Евангелия: «что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф.:19,6), но опять, во второй раз (в общем счете—в третий), попытались их разлучить. Снова переложили тела святых в отдельные гробы и разнесли по разным церквям, как и прежде. Но на утро снова нашли их лежащих вместе в общем гробу в соборной церкви Пречистой Богородицы—«на просвещение и на спасение граду тому» и на исцеление притекающим к святым мощам их.
VIОбычно «Повесть о Петре и Февронии Муромских» называют повестью о любви, но мы ни разу не
встретили это слово, чтобы оно было сказано персонажами по отношению друг к другу. Что же это за любовь?
Венчанные муж и жена являют собой одно целое. Выше уже приводилось изречение апостола Павла: «...Ни мужъ безъ жены, ни жена безъ мужа, въ Господе. Ибо как жена отъ мужа, такъ и муж чрез жену; все же—от Бога» (1 посл. Коринф.11, 11–12).
Теперь только становятся понятными слова Февронии, сказанные ею перед исцелением князя Петра: не жене не подобает его лечить! Феврония, собственно, и лечит свою вторую половинку—супруга, чтобы вместе, как единое целое, предстать пред Богом и обрести спасение в будущем веке. Но и на земле остаться вместе—в одном гробу.
Любовь Февронии к одержимому недугом князю—это жертвенная любовь, любовь к ближнему своему, ради его спасения. Божественным Промыслом и стараниями Февронии (не словесными наставлениями—тут она не нарушила правил «Домостроя»,—а примерами смирения!) и приводится князь Петр в истинный разум. Но для этого и князь проявил свою волю и смирение.
А потому оба снискали награду от Бога—дар чудотворений, и похвалу, по силе, от благодарных людей, пользующихся их даром.
«И беху державьствующе в граде том, ходяще в всех заповедех и оправдании господних бес порока, в молбах непрестанных и милостынях и ко всем людем, под их властию сущим, аки чадо любивии отец и мати.»

83
«Радуйся, Петре, яко дана ти бысть от Бога власть убити летящаго свирепаго змия! Радуйся, Февро-ние, яко в женстей главе святых муж мудрость имела еси! Радуйся, Петре, яко струпы и язвы на теле своем нося, доблествене скорби претерпел еси! Радуйся, Февроние, яко от Бога имела еси даръ в девьственней юности недуги целити! Радуйся, славный Петре, яко заповеди ради Божия самодержьства волею отступи, еже не остати супруги своея! Радуйся, дивная Февроние, яко твоим благословением во едину нощь малое древие велико возрасте и изнесоша ветви и листвие! Радуйтася, честная главо, яко во одержании ваю в смирении, и молитвах, и в милостыни без гордости пожиста; тем же и Христос даст вам благодать, яко и по смерти телеса ваю неразлучно во гробе лежаще, духом же предстоита владыце Христу! Радуйтася, преподобная и преблаженная, яко и по смерти исцеление с верою к вам приходящим невидимо подаете!».
По сути дела, в похвале отражены все смысловые узлы повести, точнее—жизни праведных супру-гов.
А в конце хотелось бы обратить внимание на заключающие творение слова Ермолая–Еразма. Это—редкое для древнерусской словесности признание смиренного («прегрешнаго») автора, «списавшаго сие», как слышал, не ведая, писали ли об этом другие, «ведуще выше» него. Хотя он «грешен есмь и груб» (любой древнерусский автор проявляет смирение, чтобы получить от Бога Благодать), «но на Божию Благодать и на щедроты Его уповая и на ваше моление ко Христу надеяся, трудихся мысл-ми». Хотел он «на земле хвалами почтити» их, но даже этого не коснулся. Хотел ради их «смиреннаго самодержьства и преподобьства по преставлении» венцы им сплести, и плетения не коснулся, ибо прославлены они и венчаны «на небесех истинными нетленными венцы ото общаго всех Владыки Христа», Которому со Отцем и со Святым Духом подобает «всяка слава, честь и поклонение ныне и присно и в веки веком. Аминь».
Похвалой Святой Троице начиналась «Повесть о Петре и Февронии Муромских», ею же и завер-шается.
[1] Сочинения Ермолая–Еразма. Повесть о Петре и Февронии Муромских //Памятники литературы Древней Руси. Конец XV—первая половина XVI века.—М., 1984.—С.626. Далее страницы указаны в тексте статьи, при этом слова, передающие Божественную сущность, пишутся с прописной буквы.
[2] В этом понимании трехчастности человеческой души, отражающей триипостасность Бога—

86
Троицы, Ермолай–Еразм близок учению св. Григория Паламы, который, «раскрывая троическое содер-жание души человека как «души умной, логосной и духовной», … подчеркивает, что человек больше всех других существ сотворен по образу Святой Троицы, Которая есть Ум, Логос и Дух». См.: Протоиерей Игорь Экономцев. Исихазм и восточноевропейское Возрождение //Богословские труды.—М.,1989.—Т. 29.—С.65.
[3] Первый пример проявления «истинного разума» описан в «Слове о Законе и Благодати» Иларио-ном Киевским в случае с князем Владимиром Святославичем. Можно было читать пророков, видеть чудеса Христовы, слушать апостолов и не уверовать в Бога. Но можно было не видеть Иисуса Христа и чудес Его, и разумом постичь «Невидимого Бога» и придти к Нему, и привести народ свой, как это сделал Владимир Святославич. У него была возможность свободного выбора: остаться язычником, как и его предки, или принять христианство. Благодаря вселившемуся по милости Божией в него разуму, который был «выше разума земных мудрецов», русский князь «Невидимого возлюбил» и «взыскал Христа», и «притек ко Христу, только по благому размышлению и острым умом постигнув, что есть Един Бог—Творец невидимого и видимого, небесного и земного». Владимир Святославич, стяжав ис-тинный разум, правильно распорядися возможностью свободного выбора, как когда–то Константин Великий в Византии, и потому удостоен равной ему чести и славы от Господа на небесах. См.: Ужанков А.Н. Русская литература XI–XVI вв. Мировоззренческий аспект // История культур славянских народов. Т.I.—М.,2003.—С.262.
[4] См.: Ужанков А.Н. Русская литература XI–XVI вв. Мировоззренческий аспект.—С.271–272.[5] В древнерусском языке слово «живот» означает «жизнь». Стало быть, животворящий крест—это
крест, творящий, дающий жизнь.[6] Заяц—один из древнейших символов христианства. Длинные, трепетные уши символизируют
способность христианина внимать голосу небес. Благоверная Феврония ощущает Промысл Госпо-день.
[7] Обычно, на людях, тем более при незнакомом мужчине, девушка должна была быть с покрытой платком головой (как в храме), ну а дома, за работой, естественно, она была без платка и поэтому смутилась, увидев незваного гостя у себя в доме.
[8] Ср.: «… Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит» (Псалом 50, 19). Для понимания по-вести важен в целом этот псалом, поскольку в повести содержатся многие аллюзии к нему: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. <…> Окропиши мя иссопом, и очищуся, омыеши мя, и паче снега убелюся. <…> Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. <…> Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего…». В определенной степени
«Она же остаточное дело въздуха того святого шиаше, уже бо единого святого риз еще не шив, лице же нашив и преста и вотче иглу свою в воздух и преверте нитью, ею же шиаше.»

87
Related Documents