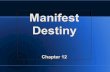Андрей Тащиан ГЕГЕЛЬ КАК СУДЬБА РОССИИ ИЛИ РОССИЯ КАК СУДЬБА ГЕГЕЛЯ? Метаморфозы «русской идеи» в современном русском гегельянстве (Доклад, прочитанный на международной конференции по философии в Софии. 1417 июля 2009 г.) Современная русская философская мысль, взятая в своем эмпирическом охвате, весьма разнообразна и разнонаправленна. Однако, в этом явном калейдоскопе философских точек зрения обнаруживается и та форма, благодаря каковой естество русской философской мысли причащается конкретности результата исторического развития философии в целом и, будучи, таким образом, усыновленным в ее духе, является ее законным наследником. Эта форма есть спекулятивная, или логическая, философия, форма абсолютной науки, получившая свое осуществление в исторической форме гегелевской философии как философии абсолютного идеализма. Но почему именно гегелевская философия или, как теперь, кажется, ее следовало бы называть, гегельянство? Ведь, по крайней мере, наряду с ней в сознании светятся по видимости не менее святые, но куда как более родные философские лики. Ответ на этот вопрос одновременно и прост, и сложен. Он прост для нас потому, что нам достаточно лишь указать на форму гегелевской философии – абсолютный идеализм. Ибо если история философии есть, вопервых, реализация того, что она есть в принципе, идеально, а вовторых, сохранение прежде реализованных принципов в качестве идеальных моментов конкретного содержания последующих, то последняя реализация как раз и состоит в том, что все принципы сохранены, т.е. идеализированы, что и составляет определенность абсолютного идеализма. Однако, для того сознания, для которого еще возникает выше обозначенный вопрос, ответ на него является сложным потому, что ему недостаточно только быть философским сознанием: такому сознанию еще необходимо знать, что оно есть, т.е. пройти саму школу истории философии и усвоить всю конкретность ее содержания. Итак, уповая на то, что мы поняты в этой общей определенности, перейдем к тому, что мы в особенности имеем в виду под современным русским гегельянством. Будет справедливым признать, что исторически таковым оказывается, прежде всего, санктпетербургская школа, духовным отцом каковой является Е.С. Линьков. В настоящее время деятельность этой школы концентрируется вокруг санкт петербургского общества классической немецкой философии. Впрочем, предметом, нашего рассмотрения будет, конечно же, не деятельность этой школы в целом, а концепции двух ее представителей – О.Ю. Сумина и А.Н. Муравьева. Что же послужило основанием такого выбора? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны будем обратить внимание на то, какое значение может иметь само выражение «русское гегельянство». Особенное определение «русское» может, разумеется, иметь лишь, так сказать, географическое значение, в аспекте которого оно выявляет по отношению к гегельянству вообще ничуть не больше специфики, чем гегельянство немецкое, французское, и какое бы то ни было. Однако это же определение может означать и то, каким специфическим образом усвоена точка

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Андрей Тащиан
ГЕГЕЛЬ КАК СУДЬБА РОССИИ ИЛИ РОССИЯ КАК СУДЬБА ГЕГЕЛЯ?Метаморфозы «русской идеи» в современном русском гегельянстве
(Доклад, прочитанный на международной конференции по философии в Софии. 1417июля 2009 г.)
Современная русская философская мысль, взятая в своем эмпирическом охвате,весьма разнообразна и разнонаправленна. Однако, в этом явном калейдоскопефилософских точек зрения обнаруживается и та форма, благодаря каковой естестворусской философской мысли причащается конкретности результата историческогоразвития философии в целом и, будучи, таким образом, усыновленным в ее духе,является ее законным наследником.
Эта форма есть спекулятивная, или логическая, философия, форма абсолютнойнауки, получившая свое осуществление в исторической форме гегелевскойфилософии как философии абсолютного идеализма.
Но почему именно гегелевская философия или, как теперь, кажется, ее следовалобы называть, гегельянство? Ведь, по крайней мере, наряду с ней в сознании светятсяпо видимости не менее святые, но куда как более родные философские лики. Ответна этот вопрос одновременно и прост, и сложен. Он прост для нас потому, что намдостаточно лишь указать на форму гегелевской философии – абсолютный идеализм.Ибо если история философии есть, вопервых, реализация того, что она есть впринципе, идеально, а вовторых, сохранение прежде реализованных принципов вкачестве идеальных моментов конкретного содержания последующих, то последняяреализация как раз и состоит в том, что все принципы сохранены, т.е.идеализированы, что и составляет определенность абсолютного идеализма. Однако,для того сознания, для которого еще возникает выше обозначенный вопрос, ответ нанего является сложным потому, что ему недостаточно только быть философскимсознанием: такому сознанию еще необходимо знать, что оно есть, т.е. пройти самушколу истории философии и усвоить всю конкретность ее содержания.
Итак, уповая на то, что мы поняты в этой общей определенности, перейдем к тому,что мы в особенности имеем в виду под современным русским гегельянством.
Будет справедливым признать, что исторически таковым оказывается, прежде всего,санктпетербургская школа, духовным отцом каковой является Е.С. Линьков. Внастоящее время деятельность этой школы концентрируется вокруг санктпетербургского общества классической немецкой философии. Впрочем, предметом,нашего рассмотрения будет, конечно же, не деятельность этой школы в целом, аконцепции двух ее представителей – О.Ю. Сумина и А.Н. Муравьева.
Что же послужило основанием такого выбора? Чтобы ответить на этот вопрос, мыдолжны будем обратить внимание на то, какое значение может иметь самовыражение «русское гегельянство». Особенное определение «русское» может,разумеется, иметь лишь, так сказать, географическое значение, в аспекте которогооно выявляет по отношению к гегельянству вообще ничуть не больше специфики,чем гегельянство немецкое, французское, и какое бы то ни было. Однако это жеопределение может означать и то, каким специфическим образом усвоена точка
зрения абсолютной науки, достигнутая гегелевской философией. При этом очевидно,что специфика этого усвоения оказывается определенной спецификой самогонародного духа, его самосознания. В таком аспекте должно быть ясно, чтогегельянские концепции Сумина и Муравьева должны с необходимостью являтьспецифику самого русского духа.
Это явление русской специфики в гегельянстве, с одной стороны, сущностно связанос принципом абсолютного идеализма, отчего, например, Сумин признает, что всякийстремящийся к абсолютному содержанию философии «неминуемо обрекает себя наношение звания “гегельянец”»[1]. С другой же стороны, именно потому, что такоеявление есть развитие того, что по видимости в самой гегелевской философии былонеразвитым, оно с необходимостью выступает как негативное по отношению кисторической форме гегелевской философии, отчего, например, Муравьев ужеотказывается от имени гегельянца и предпочитает говорить о развитии негегелевской философии, а философии после Гегеля.[2]Впрочем, в каком бы из этихотношений к гегелевской философии ни выступало то, что мы назвали русскимгегельянством, для нас важно то, что составляет определенность его особенности,его «русскости».
Как нам представляется, ее наибольшую конкретность мы имеем в ее самосознании,которое нам хорошо известно как «русская идея». «Идея» «русской идеи»заключается в том, чтобы утверждать не только естественное своеобразие русскогодуха, но также и то, что русский народ имеет всемирноисторическое значение, т.е.,выражаясь гегелевскими словами, относится к числу исторических народов. Междутем, нам столь же хорошо известно, что сам Гегель русский народ к числу таковых неотносил. Отсюда возникает противоречие для того, что мы назвали русскимгегельянством, – противоречие между тем, что оно есть в определенности русского, итем, что оно есть как гегелевская точка зрения вообще.
Это противоречие требует своего снятия, и то, каким образом названныепредставители русского гегельянства пытаются его осуществить, есть наиболеепримечательное. Если прежде поборники «русской идеи», не связанные сгегелевским абсолютным идеализмом, пытались достичь своей цели, исходя изрелигиозной точки зрения, то теперь упомянутые представители русскогогегельянства, пытаясь осуществить то же, отталкиваются от точки зрения самойабсолютной науки. «Русская идея», таким образом, претерпевает заметнуюметаморфозу.
Здесь, правда, необходимо сделать небольшую оговорку. Цель историческогооправдания русского духа, полагаема ли она сознательно или же толькопредполагаема, равным образом является объектом его стремления. Для нас это непринципиально постольку, поскольку в себе, т.е. по своему содержанию, суть делаодна и та же. Как бы то ни было, заметим, что, на наш взгляд, Сумин проявляетбольшую определенность в ее сознании, нежели Муравьев. Если же принять вовнимание еще и тот внешний факт, что концепция первого становится известной повремени раньше, то будет справедливым начать с него.
Сумин изложил содержание своей концепции в монографии «Гегель как судьбаРоссии», которая, несомненно, заслуживает серьезного внимания и детальногорассмотрения, но для достижения нашей особенной цели мы вынужденыограничиться представлением ее наиболее принципиальных положений.
Видя себя приверженцем спекулятивного метода, развитого Гегелем, Сумин, тем неменее, считает, что гегелевское понимание истории имеет незавершенный характер.Эта незавершенность, по его мнению, проявляет себя, прежде всего, в логической
неудовлетворительности основания деления истории, каковое Сумин находит уГегеля в аналогии человеческих возрастов, не соответствующей определенностиспекулятивного метода. Указанный недостаток может быть объяснен и восполненлишь в том случае, если брать за основание деления истории как объективного духаопределенность духа абсолютного как конкретности субъективного и объективного,притом что каждый из членов деления следует мыслить развитым как в моментесубъективности, так и в моменте объективности. На этом основании историческийпроцесс должен быть разделен на эпохи искусства, религии и философии. Но еслико времени создания Гегелем его системы формы искусства и религии получили своетотальное развитие в обоих моментах (чему соответствуют эпохи, вопервых,Древнего мира как Востока и Античности и, вовторых, Нового времени), тофилософская форма, по мнению Сумина, была развита до тотальности лишь вмоменте субъективности и существовала «только в творчестве одного человека –Гегеля»[3]. Поскольку объективность в указанное время, считает Сумин, продолжалаопределяться религиозной формой, постольку это объясняет то, почему Гегельименно с ее определенностями связывал этапы всемирной истории. Но всоответствии с заданной схемой философская форма также должна быть развита вмоменте объективности, истории, для чего необходимо, чтобы на ее сцену выступил,народ, прежде находившийся за ее кулисами. Этот народ и есть русский народ, а тотмир, который им определен, есть в широком смысле славянский мир – философскаяэпоха в противоположность германскому миру как эпохи религиозной.
Так, представляет Сумин, смутная «русская идея», до тех пор связывавшая себя срелигиозной формой, вполне проясняет себя и уясняет себя себе самой,превращаясь в научную, философскую идею. И как раз потому, что русский духобъективирует или практически осуществляет то, что, по Сумину, было субъективноили теоретически завершено гегелевской философией, сама философияабсолютного идеализма есть его необходимость, его судьба.
Свидетельством объективности своей точки зрения Сумин считает то, что возникшеев двадцатом веке советское государство имело в содержании своейкоммунистической идеологии, пусть и в превращенной форме, гегелевскуюдиалектику, а также то, что это философское государство одержало победу в«столкновении цивилизаций», т.е. во второй мировой войне, или определеннее, вВеликой Отечественной Войне, над фашистской Германией, олицетворявшейуходящую религиозную эпоху.
Кстати, эти по видимости эпохальные исторические события Сумин считает пробнымкамнем для актуальной философии истории. Как полагает автор, оставаясь в рамкахгегелевской концепции их невозможно адекватно осмыслить именно потому, что вгегелевские времена абсолютный идеализм еще не был положен в моментеобъективности. Теперь же, когда мир изменился, должно измениться и егопонимание.
Таковы, на наш взгляд, наиболее важные положения концепции Сумина, которые всвоем результате, как нам представляется, не столько утверждают актуальность исудьбоносный характер гегелевской философии для русского духа, ибо абсолютнаяидея как снявшая в себе всякую действительность и объективность естьнеобходимость любого определения природы и духа вообще, сколько утверждаютактуальность и судьбоносный характер самого русского духа для гегелевскойфилософии, ибо без него абсолютная идея, по мысли автора, лишена своейобъективности.
Эти положения не раз становились предметом полемики. Прежде всего, вызываетнедоумение то, что, рассматривая гегелевское основание деления истории, Сумин,
главным образом, замечает только уже упоминавшуюся возрастную аналогию.Между тем, в самой «Философии истории» Гегель говорит, что история есть развитиепринципа, содержание которого есть сознание свободы, как определенности духавообще. При этом первой ступенью является «погружение духа в естественность;вторая ступень – это выход из этого состояния и сознание своей свободы. Но этотпервый отрыв (от естественности) не полон и частичен, так как он исходит отнепосредственной естественности, следовательно, относится к ней и еще неотрешился от нее как момента. Третьей ступенью является возвышение от этой ещечастной свободы до ее чистой всеобщности, до самосознания и сознаниясобственного достоинства самой сущности духовности. Эти ступени являютсяосновными принципами всеобщего процесса…»[4]. Сразу при этом заметим, чтоГегель исходит из самого понятия истории, определенности которого и должны бытьмоментами ее периодизации. Сумин же для этой сферы заимствует внешний для неекритерий.
Несомненно, поскольку абсолютный дух в себе есть конкретность конечныхопределенностей субъективного и объективного, постольку он обнаруживает своюопределенность и в том, и в другом как в моментах самого себя. Но это вовсе не естьразумное основание для того, чтобы моменты его определенности брались вкачестве принципов периодизации истории. Не будем также забывать, чтообъективный дух, к сфере которого относится история, есть сфера еще толькосознания свободы, тогда как абсолютный дух – ее самосознание. Это означает, чтоабсолютный дух как самосознание, будучи субстанцией объективного как сознания,предполагает его, т.е. полагает его в качестве своей предметности, котораяснимается в содержании абсолютного. Но из этого следует, что историческое вабсолютном вообще завершено, т.е. снято.
На сказанное, однако, мы можем услышать следующие возражения. Почему же тогдасам Гегель позволяет себе называть греческий мир художественным произведением,а саму историю государств объявлять связанной с определенными религиознымиформами? Что в таком случае мешает искать в истории также и «философское»государство? Не историческая ли ограниченность гегелевской философии историипрепятствует нам в усмотрении этого? В ответ на первый вопрос мы должны указать,что греческое государство называется художественным потому, что таковаопределенность самой греческой религии. Напомним, что хотя искусство и являетсяформой абсолютного духа, оно именно по своей форме есть еще только созерцание,абсолютное содержание которого определенно только как религиозноепредставление (ибо единичное истинно только как всеобщее, предметность истинналишь как определенность сознания, сознание же истинно только как самосознание).Вот почему нельзя говорить об «эпохе искусства» в истории, хотя, разумеется,допустимо говорить о том, что греческое государство имеет своей субстанциейхудожественную религию.
Остается, таким образом, разобраться лишь с тем, насколько логически оправдана уГегеля связь религии с историей. Начнем с того, что Гегель в §554 «Энциклопедии»характеризует сферу абсолютного духа вообще как религию. Следует ли,спрашивается, из этого, что Гегель считал, что религия является всеобщей формойабсолютного духа? Если понимать всеобщность как конкретную тотальность, то,конечно же, нет. Она является абсолютным духом вообще лишь в непосредственном,абстрактном смысле этого слова. Ведь самосознание свободы как определенностидуха вообще тождественно со своим сознанием сначала только в себе, т.е. по своемусодержанию, абсолютная конкретность которого для него выступает как откровенное,т.е. данное, но не положенное им самим. Конечность религиозного отношения как рази снимается в философии. Но именно в этой последней конечности отношения и
заключается ее связь с объективным духом, государством, историей. Ибонравственность, развитием которой является государство, есть такая же данность,как содержание религии. Поэтомуто Гегель и говорит о том, что «…государствопредставляет собой развитие и осуществление нравственности, –субстанциальностью же самой нравственности является религия»[5].
Именно данность этого абсолютного содержания, как правильно отмечает в своейдиссертационной работе наш исследователь И. Зотова, «и составляет существеннуюразницу между религией и философией. Для последней предмет не может выступатькак предпосылка, даже если эта предпосылка свободно раскрывается в сознании какего собственное божественное содержание. Суть философии в том, чтобы сделатьсебя актом этого раскрытия, чтобы утвердить сознание как абсолютную основу себясамого, найдя его в качестве абсолютного самосознания, порождающего для себя то,что прежде оно только находило в себе»[6].
Вместе с тем, необходимо понимать, что содержание философии и религии одно и тоже. А это в свою очередь означает, что у философии не может быть никакой «своей»эпохи, отличной от эпохи религии.
Что же касается тезиса Сумина, в соответствии с которым абсолютная идея вгегелевской философии была якобы положена лишь в ее теоретическом моменте,познании, тогда как практический, волевой момент еще не нашел своегоосуществления, что должно послужить основанием ее объективации, то он выявляетсвою превратность постольку, поскольку представляет абсолютную идею, результаткак неснятый момент своего собственного развития. Следуя Сумину, получается, чтодо момента своей «философской» объективации воля не была присуща познанию, апознание – воли. Но тогда о какой же абсолютной идеи как конкретности обоихмоментов можно вести речь? Вот почему касательно этого пункта Зотовасправедливо заключает: «…чтобы вести речь об абсолютной идеи в ее объективноммоменте необходимо ее уже иметь. Это, в свою очередь, дает нам основаниеполагать, что у философской идеи нет исторической эпохи, эпохи ее зрелости,которая бы следовала за моментом данности абсолютной идеи субъективнонемногим мыслителям, как это пытаются продемонстрировать…»[7]. Ведь еслиполагается понятие истории, то – продолжает наш исследователь – полагается еерезультат. Это понятие истории снимает этапы явления идеи, т.е. снимает опытисторического движения духа. «Данное снятие, как обнаружение принципа свободы вистории, доказывает этот принцип лишь его чистой природой, бесконечной формой,вобравшей в себя противостояние сознания и объекта. Это собственно и естьгегелевская система»[8].
Чем же тогда на деле оказывается точка зрения Сумина, сообразно которойславянский мир во главе с русским духом является сосудом абсолютного? Ничеминым, как попыткой представить, а не понять абсолютное. А так как представление иесть определенность религиозного сознания, то какая концепция есть все та же, хотябы и превращенная, мессианская религиозная «русская идея».
Однако, рассмотренная «философская» метаморфоза «русской идеи», какоказалось, не последняя. На наш взгляд, еще большую философскуюпревращенность она претерпевает в концепции Муравьева. Впрочем,справедливости ради отметим, что для себя Муравьев не ставит перед собой такойособенной задачи, как оправдание русского духа в истории. Тем не менее, для насэта тенденция себя обнаруживает.
Основное содержание своей концепции Муравьев излагает в своем программномдокладе «Учение Гегеля об абсолютном духе и задачи новейшей философии» и в
имевших место после него ответах на вопросы и дискуссии, в статье «Гегель ознании и вере как необходимых предпосылках и моментах становления научногопознания». Кроме того, мы находим это содержание в ряде его других статей.
Прежде всего, Муравьев обращает внимание на гегелевское учение об абсолютномдухе, или – точнее – на заключительныем параграфы «Энциклопедии философскихнаук» (§§574577), ибо, как полагает автор, в них наличествует «сформулированноесамим Гегелем указание на то, чем предстоит стать философии после него»[9], и мы,как и он, не можем обойтись без воспроизведения их содержания. Однако, дляуяснения этого содержания мы должны вспомнить, что в §573 философияопределяется как познание необходимости абсолютного содержания в формахискусства и религии, которое, будучи, вопервых, его признанием, а, вовторых,освобождением от односторонности этих форм, является возвышением их доабсолютной формы, самое себя определяющей как содержание. «Это движение,которое и есть философия, оказывается уже осуществленным, когда оно взаключении постигает свое собственное понятие, т.е. оглядывается назад только насвое же знание»[10].
Это понятие философии, говорит Гегель в §574, есть «мыслящая себя идея,знающая истина, логическое в том значении этого слова, что оно есть всеобщность,удостоверенная в своем конкретном содержании как в своей действительности.Таким образом, наука является возведенной к своему началу, и логическоеоказывается ее результатом как духовное в том смысле, что оно из предполагающегосуждения, в котором понятие существовало только в себе и в котором его началобыло только чемто непосредственным, тем самым, следовательно, из явления,которое оно имело в этом процессе познания на основе понятия, возвысилось досвоего чистого принципа, входя в то же время как бы в свою стихию»[11].
Муравьев интерпретирует этот параграф следующим образом. Вопервых, онполагает, что Гегель называет это понятие философии первой формой научностифилософии. Вовторых, оно есть «всеобщность, проверенная (курсив Муравьева –А.Т.) в своей действительности, в своем конкретном содержании. Это и естьосновная характеристика энциклопедического способа изложения науки, поскольку внем логическое есть форма, которая рассматривается не только сама по себе (какидея в себе и для себя), но и проверяется в конкретном содержании. В чемзаключается эта проверка? В том, что логическое, будучи изложенным в первомразделе гегелевской системы (в науке логики) как абстрактное, выступает затем вконкретном содержании философии природы и философии духа»[12]. Далее,высказываясь о предполагающем суждении (перводелении) духовной субстанции, еесаморазличении на субъект знания и объект веры, Муравьев говорит о нем как обисходном пункте всего развития духа в эпоху Гегеля и делает вывод, что он«всеобщим образом характеризует абсолютный дух как религию, которая в Новоевремя как раз основывалась на этом различии»[13]. В этом, по Муравьеву,заключается историческая ограниченность гегелевской точки зрения[14]. Чтобыглубже уяснить, почему это так для Муравьева, мы должны идти дальше.
В следующем параграфе Гегель говорит, что упомянутый процесс явленияобосновывает дальнейшее развитие. «Первое явление представляет собойумозаключение, которое имеет своим основанием логическое как отправной пункт, априроду – в качестве середины, каковая и связывает дух с этим логическим.Логическое становится природой, а природа – духом…». При этом природа как неразобщает крайности, как и не отделяет себя от них так, «что соединяло бы ихтолько как другое; ибо умозаключение определено в идее, а природа существенноопределена только как переходный пункт и как отрицательный момент, идея в себе.
Но опосредствование понятия имеет внешнюю форму перехода, наука же – формудвижения необходимости, так что только в одной из крайностей положена свободапонятия как смыкания его с самим собой»[15].
Содержание этого параграфа, по мысли Муравьева, является «образцомсамокритики великого философа», который «открыто и недвусмысленно пишет онедостатках первой научной формы философии», т.е. об энциклопедическомизложении науки. Его несовершенство, как считает автор, заключается в том, чтосвобода понятия положена только в логическом, тогда как в природе и духе она неположена. На этом основании для того, чтобы охарактеризовать это первое явлениелогического (как, впрочем, и последующие), он предлагает использовать в качествеопределений выявленные самим Гегелем три формальных момента логического(§79): абстрактный (рассудочный); диалектический (отрицательноразумный); испекулятивный (положительноразумный). При этом Муравьев предлагает«логическую форму науки, представленную гегелевской «Энциклопедией», назватьабстрактнологической, или рассудочнологической формой»[16].
Как следствие, на повестке дня, по Муравьеву, в качестве «задачиминимум»«новейшей» философии стоит «превращение философии в такую науку, в которойлогическое выступит, напротив, не началом, а концом, результатом снятия природыпосредством духа»[17]. Это, как он полагает, есть вторая форма явления науки, и онназывает ее диалектической, или отрицательноразумной, в каковой снимаетсяпервая рассудочная. Именно об этом, на его взгляд, говорит Гегель в параграфе§576: «Это явление во втором умозаключении снято, поскольку это второеумозаключение есть уже установка самого духа, который представляет собойпосредствующий момент процесса, уже предполагающего природу, и смыкает ее слогическим. Это есть умозаключение духовной рефлексии в идее; наука проявляетсякак субъективное познание, цель которого свобода и которое само есть путьпорождения для себя этой свободы»[18].
Однако, чем же определенно должна быть для Муравьева эта вторая форма? Онадолжна быть «расставанием», хотя бы и не завершенным, логической формыфилософии с независящими от нее предпосылками, а именно со знаниями о природеи духе, добываемыми позитивными науками, тогда как первая форма, включающаяфилософию природу и философию духа, от них зависит.
Финальный же аккорд логического развития науки должен состоять в отрицаниидиалектической формы как первого отрицания, что будет полаганием «вполнелогической, т.е. строго спекулятивной, или положительноразумной формы,свободной от каких бы то ни было независимых от нее предпосылок»[19]. Последнее,по Муравьеву, – «задачамаксимум» новейшей философии, и, как он полагает, какраз о ее постановке и сообщает нам Гегель в последнем параграфе«Энциклопедии»: «Третье умозаключение есть идея философии, которая своимсредним термином имеет знающий себя разум, абсолютное всеобщее, каковойраздваивается на дух и природу, делает первый предпосылкой в качестве процессасубъективной деятельности идеи, а вторую – всеобщей крайностью как процесс всебе объективно сущей идеи. Процесс самоделения идеи в суждении в отношении кобоим упомянутым явлениям определяет эти явления как его (знающего себяразума) обнаружения. В немто и происходит соединение тех двух моментов, чтоприрода предмета – понятие – есть именно то, что движется вперед и развивается, ичто это движение есть в такой же мере и деятельность познания – вечная в себе идля себя сущая идея, вечно себя проявляющая в действии, себя порождающая исобой наслаждающаяся как абсолютный дух»[20]. Для Муравьева это означает, чтологическое как содержащее в себе в снятом виде природу и дух выступит абсолютно
всеобщим основанием познания позитивными науками развития понятия в природе идухе, а философия сосредоточится на познании саморазвития понятия в нем самоми станет только наукой логики, не связанной по содержанию с эмпирическимматериалом. «Тогда, когда это произойдет, – заверяет Муравьев, – религияокончательно утратит характерную для эпохи модерна гегемонию в сфереабсолютного духа, отмеченную Гегелем в начале учения о нем. Доминировать в этойсфере начнет философия, которая, став вполне логической наукой истины кактаковой, совершенно упразднит мнимую противоположность знания и веры, чемоткроет для себя и других наук, искусства и религии поистине бесконечнуюперспективу развития»[21].
Этот философский апокалипсис должен быть, с точки зрения Муравьева,завершением становления абсолютного духа во времени, первой эпохой которогоявляется античность с главенством искусства, а второй – Новое время (как уже былоотмечено) с главенством религии. В результате этого должен разрешится«тотальный духовный кризис» (включая сюда кризис политический), в которомнаходится мировая культура в настоящие «кошмарные времена»[22]. Однако еслиэта будущая «подлинно спекулятивная» философия есть необходимое условиеисторического прогресса и реального снятия противоречий действительности,объективности, то возникают, по крайней мере, три вопроса: 1) не заменит ли онарелигию в том отношении, которое последняя имеет к истории и объективному духувообще?; 2) не должен ли в этой связи выступить на арену истории еще один народ,с которым будет связан упомянутый прогресс; и, наконец, 3) если должен, то что жеэто за народ?
И мы находим у Муравьева следующие ответы. Религия может сохранить своепрежнее положение, если она совершит свою окончательную реформацию, основойкоторой будет философский, логический элемент в стихии религиозногопредставления. «Причем, – говорит Муравьев, – этот элемент будетформообразующим, т.е. преобразующим… Именно в силу такого проникновениярелигия вместе с искусством и положительными науками изменится и в известномсмысле окончательно преобразуется. …Это будут такие изменения, которые намсейчас и представитьто трудно»[23]. Поскольку же реформация религии, тольконачатая немецким народом по историческим причинам завершена не была,постольку после него на арену истории должен выйти следующий народ, который,утвердившись в качестве гегемона мирового процесса, завершит реформацию. Иэтот народ есть русский народ. Так что если искусство определяет дух античности, арелигия – дух германских народов, то «завершить всемирноисторический процессобразования человечества, соединив собой Восток и Запад, восход и закатцивилизации, суждено (курсив наш – А.Т.) России»[24].
Но здесь мы уже не можем не поставить вопрос: почему же это суждено именноРоссии, ведь для Муравьева (в отличие от Сумина, для которого русский народ ужесыграл свою судьбоносную роль) мировая гегемония русского духа дело будущего?Если такая точка зрения есть не только религиозномессианское прозрение, нопретендует на научную форму, то, по меньшей мере, должна быть показана еереальная возможность. Но в качестве ее определенности называется только то, чтоименно в России обсуждается то, что является предметом нашего рассмотрения (т.е.в данном случае – сама концепция Муравьева), и то, что у русского народа ещеДостоевским замечена «всемирная отзывчивость и просто дикая жадность дообразования»[25]. Что касается первого «основания», то его содержание нереально,поскольку имеет форму должного, а не сущего. Что же касается второго, то егосодержание реально только как негативное, ибо полагает незавершенностьобразования русского духа даже в сравнение с западным, а это означает лишь
абстрактную возможность, т.е. реальную невозможность русского духа быть тем, чемего видят.
Исходя из сказанного, нам остается сосредоточить внимание на том, насколькологически оправдано толкование Муравьева гегелевских положений.
Необходимо заметить сразу, что для нас его интерпретация превратна. Начнем стого, что, на наш взгляд, ошибочно то, что достигнутое в результатеэнциклопедического рассмотрения понятие философии, которое Гегель в §574определяет как возникшее из явления, каковое оно имело в этом процессе познания,называется Муравьевым первой формой научности философии, тогда как в его жеинтерпретации это имя следовало бы относить к тому, о чем Гегель говорит вследующем параграфе. Дело в том, что в §574 Гегель, несомненно, сообщает одостижении наукой своего понятия вообще. Эта общая явленность понятия и служитоснованием полагания различенным того, что есть это понятие, т.е. мыслящей себяидеи. Поскольку же идея при этом остается в этих различиях у себя самой, постолькунеобоснованно говорить о какомлибо полагании сменяющих друг друга во времениформ науки, как это делает Муравьев[26].
То, что Гегель в «Энциклопедии» называет первым явлением науки,представляющим собою умозаключение, имеющее своим основанием логическое какначало, природу – как середину, связывающую с логическим дух, получило своеобоснование еще в «Науке логике». В ее самом конце он пишет, что абсолютнаяидея есть еще логическая идея, т.е. она «есть еще наука лишь божественногопонятия. …Так как чистая идея познания тем самым заключена в субъективность, тоона есть побуждение снять эту субъективность, и чистая истина как последнийрезультат становится также началом другой сферы и другой науки. …. А именно,полагая себя как абсолютное единство чистого понятия и его реальности и темсамым сосредотачивая себя в непосредственность бытия, идея как тотальность вэтой форме есть природа. … это ближайшее решение чистой идеи определить себякак внешнюю идею тем самым полагает себе лишь опосредствование, из которогопонятие возвышается как свободное существование, возвратившееся в себя извнешности, окончательно освобождает себя в науке о духе и обретает высшеепонятие самого себя в науке логики как чистом понятии, понимающем самогосебя»[27]. С нашей точки зрения, эти гегелевские положения как разсвидетельствуют о том, что Гегель сам называет философию природы и философиюдуха науками, и что они суть неотъемлемые части научной системы. Что же касаетсятого, что в первом явлении опосредствование понятия имеет внешнюю формуперехода, а наука – форму движения необходимости, тогда как свобода понятияполагается только в логическом, то это только так, если пытаться подобно Муравьевурассудочным образом отделить субъективное познание духа, предполагающегоприроду и смыкающую ее с логическим, что и составляет второе умозаключение, оттого, что есть идея в своей действительности, объективности как природа и дух.[28] Но следует помнить, что и то, и другое, в себе есть идея, в свободе которой «несовершается поэтому никакого перехода; простое бытие, к которому определяет себяидея, остается для нее совершенно прозрачным и есть понятие, остающееся в своемопределении при самом себе»[29].
Кстати, столь же абстрактнорассудочным образом Муравьев толкует и моментысамого логического, представляя их в качестве определений своих трех«исторических» форм логического. Между тем, Гегель четко объясняет, что все они«суть моменты всякого логически реального, т.е. всякого понятия или всего истинноговообще». При этом «все они могут быть положены в первом моменте, в моментерассудочности, и благодаря этому удерживаемы в своей обособленности, но в этом
виде они рассматриваются не в их истине»[30]. Так и поступает, на наш взгляд,Муравьев в своей интерпретации, ведь для него есть три отдельные формылогического.
Эта же абстрактная рассудочность проявляется у Муравьева и в попытке определитьтак называемый предмет философии как только «идею в себя и для себя»[31], кактолько логическую идею. Так, тот факт, что Гегель включает в свое философскоерассмотрение природу и дух, Муравьев считает историческим недостатком,«внутренним противоречием гегелевского учения»[32], в котором «наука логикивыступает наряду с философией природы и философией духа»[33], выявляя темсамым свой «эмпирический хвост»[34], «нерастворенный исторический остаток»[35].Однако, обратимся к самой «Науке логики», которую Муравьев признает вполненаучной. В разделе «Абсолютная идея» он говорит, что «она единственный предмети содержание философии»[36]. Логическая же идея есть «идея как такая, которая впростом тождестве заключена в своем понятии и еще не выявлена в какойнибудьопределенности формы»[37]. Но это для нас и означает, что логика есть еще или ужепонятие абсолютной идеи, которое для того, чтобы быть самой идеей полагает илипредполагает природу и дух. В содержании абсолютной идеи эта еедействительность снята, что и являет «третье умозаключение» «Энциклопедии». Итолько если рассматривать эти части рассудочным образом, они оказываютсясущими «наряду» с логикой.
Из сказанного следует, что исторически ограниченной и противоречивой как невполне спекулятивной оказывается философская точка зрения не Гегеля, но самогоМуравьева.
Заключая наше рассмотрение, стоит, пожалуй, поставить вопрос о причине этогонедостатка спекулятивности. Ее, если угодно, можно усматривать в субъективномпознании авторов изложенных концепций. Но поскольку и тот, и другой видятуказанный недостаток в объективности, историческом характере гегелевскойфилософии, считая его устранение судьбой русского духа, постольку и мы позволилисебе, помятуя о том, что какою мерою мерите, такою и вам будут мерить,представить, что в том, насколько русское гегельянство пытается эмансипироватьсвою «русскость» от «гегельянства», настолько оно оказывается неспособнымудержаться на высоте спекулятивной точки зрения, в которой все историческоеснято, отчего, говоря словами апостола Павла, уже «нет ни эллина, ни иудея…но всеи во всем Христос», т.е. Логос.
[1] Фрагмент интервью с Е. С. Линьковым // Сумин О. Гегель как судьба России.Краснодар: ПКГОО «Глагол», 2005. С. 328 – 343. С. 340.
[2] См. текст доклада А.Н. Муравьева «Учение Гегеля об абсолютном духе и задачиновейшей философии» на теоретическом семинаре СанктПетербургского обществаклассической немецкой философии. СПб, РГПУ им. Герцена, 28 февраля 2007.http://philosophiya.ru/wpcontent/uploads/muraviov_o_hegele2.zip.
[3] Сумин О. Гегель как судьба России: изд. 2е, испр. и доп. Краснодар, 2005. С. 252.
[4] Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. – СПб.: Наука, 1993. С. 105.
[5] Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук: В 3х т.: М.: Мысль, 1977. Т. 3. С.373.
[6] Зотова И.В. Усвоение абсолютной идеи Г.В.Ф. Гегеля: раскрытие предметапостгегелевской западной философии. (Диссертация на соискание ученой степеникандидата философских наук). Краснодар, 2009.
[7] Там же.
[8] Там же.
[9] Муравьев А.Н. Учение Гегеля…
[10] Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия … Т. 3. С. 394.
[11] Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия … Т. 3. С. 406.
[12] Муравьев А.Н. Учение Гегеля…
[13] Там же.
[14] В этом, как мы видим, уже налицо момент единства Муравьева с Суминым.
[15] Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия … Т. 3. С. 406407.
[16] Муравьев А.Н. Учение Гегеля…
[17] Там же.
[18] Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия … Т. 3. С. 407.
[19] Муравьев А.Н. Гегель о знании и вере как необходимых предпосылках имоментах становления научного познания // Вера и знание. Соотношение понятий вклассической немецкой философии. – СПб.: Издательство СанктПетербургскогогосударственного университета, 2008. С. 156.
[20] Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия … Т. 3. С. 407.
[21] Муравьев А.Н. Гегель о знании и вере… С. 157.
[22] Муравьев А.Н. Учение Гегеля…
[23] Там же.
[24] Муравьев А.Н. Основной вопрос философии образования // Философияобразования. Сб. материалов конференции. Серия «Symposium», выпуск 23. СПб.:СанктПетербургское философское общество, 2002. С. 25.
[25] Муравьев А.Н. Учение Гегеля…
[26] Поэтому следует признать, пожалуй, фантастическими те объяснения, которымиМуравьев пытается обосновать то, почему Гегель говорит в §575 о второмумозаключении в прошедшем, а не в будущем времени.
[27] Гегель Г.В.Ф. Наука логики. – СПб.: Наука, 1997. С. 771772.
[28] Поэтому неудивительно, что Муравьев не говорит ничего определенного поповоду того, чем же должна быть «вторая форма» логической философии, в которойдолжно осуществиться «расставание» со знанием о природе и о духе.
[29] Гегель Г.В.Ф. Наука логики… С. 771.
[30] Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия … Т. 1. С. 202.
[31] Муравьев А.Н. Учение Гегеля…
[32] Муравьев А.Н. «Энциклопедия философских наук Гегеля» в истории отношенияфилософии и опыта // Философский век. Альманах. Вып. 27. Энциклопедия какформа универсального знания: от эпохи Просвещения к эпохе Интернета / Отв.редакторы Т.В. Артемьева, М.И. Микешин. — СПб.: СанктПетербургский Центристории идей, 2004. С. 66.
[33] Муравьев А.Н. Реформация и современность // Credo new теоретический журнал,ISSN 1993808X. 3, 2002. http: //credonew.ru/content/view/290/27/.
[34] Муравьев А.Н. Учение Гегеля…
[35] Муравьев А.Н. Реформация и современность…
[36] Гегель Г.В.Ф. Наука логики… С. 754.
[37] Там же. С. 755.
Related Documents